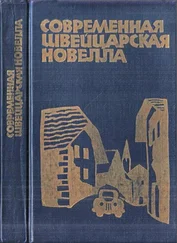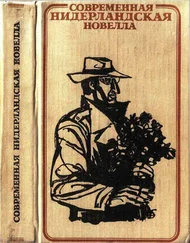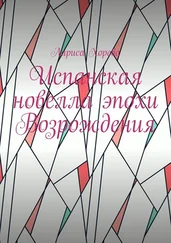Вместо муз его чрезмерно часто посещали свояченицы, рассказывавшие о нотариусе — отце семейства, который умер, «взяв с собой ключ от кладовки». Он чувствовал себя жалким, ничем не примечательным человеком, отождествлявшим смерть уже не с тревожно — патетическими представлениями о потустороннем мире, не со страстными порывами в стиле Бодлера, а со злополучным ключом от кладовки. И он перестал сочинять стихи.
Вот так, постепенно, его и искалечили, превратив в чужого человека в собственном доме. И все потому, что (он в Этом не сомневался) его не любили. А может, и любили, но по — своему, как любят непризнанного отца семейства, и даже немного побаивались. Он не знал, почему все так получилось. Возможно, потому, что жена, когда дети были совсем маленькими, уже тогда напускалась на них с угрозой: «Вот расскажу все отцу». Или же потому, что, упиваясь своими произведениями, произведениями поэта — неудачника, и позволяя взрослым постоянно говорить детям: «Оставьте отца в покое», «Не мешайте отцу», он утратил потребность в общении с ними. Так все больше и больше он отдалялся от семьи, пока наконец не стал в ней чужим.
Дети, по мере того как они росли, теряли внешнее сходство с его родней. Все дочери становились похожи на тетю Асунсьон, на эту проклятущую тетку Асунсьон по материнской линии, вообразившую себя красавицей вульгарную женщину, которой жена очень гордилась. Сыновья же все больше превращались в живой портрет дядюшки Амбросио Видаля, еще здравствующего эгоистичного старикашки, у которого денег куры не клюют. И у Даниэля сложилось впечатление, что его дети, его кровь и плоть, всячески стараются угождать старому Амбросио Видалю ради его наследства.
«Имена, — думал Даниэль, — это наша путеводная нить, наша судьба».
Думая так, он пытался прочитать имена на бирках, привязанных к чемоданам его попутчиков. В купе, кроме него, ехали еще два пассажира. Бирку сеньора, спавшего напротив него, он прочесть не мог, так как она оказалась перевернутой. Вид у этого пассажира был несколько странный: коротенький, полный, он носил сюртук, белый жилет и широкий фуляр вокруг шеи. Он спал безмятежно и, казалось, улыбался во сне. Даниэлю было досадно, что он не может узнать его имени. Как же его зовут? Но постойте, эта чертова бирка, которая так возбуждала любопытство Даниэля, кажется, скоро вывалится из окаймлявшей ее кожаной рамки. Так что не будет ничего удивительного, если в конце концов она упадет прямо к его ногам.
Другой чемодан принадлежал сеньоре, сидевшей у окна. На ее бирке Даниэлю удалось прочесть только имя: Флавия. Оно приятно взволновало его, и он решил, что такое имя достойно быть высеченным у поднояшя мраморной статуи.
Слово «Флавия», казалось, окутало его чудесным ароматом. А сама Флавия, с ее бледными руками и стройностью газели, просто очаровала его. Изящная и гибкая, она напоминала одалиску из гарема гренадского эмира. Разговор начала она, причем голос ее звучал тихо и, как слышалось Даниэлю, отрешенно. До этого она читала книгу стихов Поля Валери — обстоятельство, уже само по себе придававшее ей известную привлекательность. Говорили о том о сем — о поэтах, о балете, о музыке молодых композиторов, о пленительных закатах в Александрии и о тончайших движениях души, которые — о чудо! — доступны были только им двоим. Пейзаж, мелькавший за окном вагона, навел Флавию на грустные размышления. Она не замедлила высказать их вслух. И как же оценил их Даниэль! Ведь за последние пятнадцать лет ему постоянно приходилось выслушивать умилительные сравнения чуть ли не каждого клочка земли с «Вифлеемом» [6] «Вифлеем» — макет той части города Вифлеема, где, по преданию, родился Христос. Фигурки людей, животных, рельеф природы делаются из глины, папье — маше или из картона.
. Прошло не очень много времени, а он уже знал, что Флавия наряду с некоторыми другими вещами предпочитает орхидеи, памятники старины и куропаток с душком.
Флавия тоже не была довольна жизнью. Даниэль отметил Это с восторженным сочувствием. Какая же это награда для одной непонятой души найти другую, такую же непонятую душу! Его сорок неудачно прожитых лет встретили наконец робкий отклик.
Они говорили о Дебюсси, когда проснувшийся толстячок шумно развернул пакет с провизией и весьма радушно предложил им куриную ножку.
Даниэль отказался и даже немного обиделся. Он вдруг решил, что еда — это вообще нечто кощунственное. Больше того, ему казалось, что он не в состоянии есть не только сей час, в такой момент, но что, возможно, никогда уже не сможет ничего проглотить. Незнакомец же, поев, выпил большими глотками красного вина и снова улегся спать.
Читать дальше