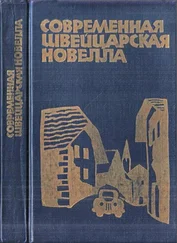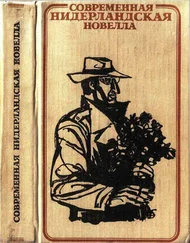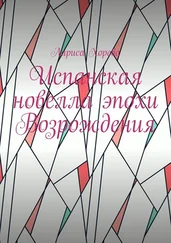До станции, где Даниэлю предстояло сойти, оставался один час. Она же, эта образованная и разочарованная жизнью газель, поедет дальше. К границе. Слово «граница» причинило Даниэлю острую боль, точно его ударили хлыстом. Оно открыло ему тайны его природы, в которых вихрем роились волнующие душу мечты. Граница, рубеж — это та линия, которую при желании можно передвинуть. Хватит ли только у него сил преступить границу своего бытия?
И он оглянулся назад — на свое унылое, однообразное существование: жена, рано поблекшая по причине, которую она называла «домашней суетой», ее выцветшие халаты, сшитые из скатерти, корзина с грудой белья, терпеливо ожидавшего, пока его выгладят, и вечные упреки: «Если бы ты надел теплый шарф, ты бы не простудился». Он вспомнил об Эвкалиптовых ингаляциях, ощутив во рту знакомый приторный вкус. Вспомнил и последние наставления жены: «Ты должен вернуться в понедельник, к сочельнику». Для чего? И зачем вообще по — рабски придерживаться всех этих повторяющихся из года в год ритуалов? Даниэля охватило безумное желание проехать мимо станции провинциального городка, где его ждала привычная, будничная жизнь, и устремиться дальше, за той, другой жизнью, которая неясно грезилась ему в юности. Не переставая об этом думать, он стал доверительно рассказывать Флавии о себе. Были мгновения, когда Даниэль, изливая душу, испытывал угрызения совести. Он смутно понимал, что поступает дурно, доверяясь незнакомке и взволнованно излагая ей интимные подробности, но остановиться уже не мог. Она смотрела на него и слушала внимательно, как слушают обычно увлекательную лекцию.
Потом Флавия встала и направилась в вагон — ресторан. Даниэль решил не есть в дороге, поскольку успевал домой как раз к обеду. И тут же представил его себе: дымящийся супник поставлен на середину стола, как в домах мастеровых. Он даже покраснел от стыда при мысли, что подумала бы Флавия, если б узнала, как опошлена его жизнь.
Едва только Флавия ушла, пассажир в сюртуке опять проснулся. Он оказался на редкость общительным человеком.
— Я не хожу в вагон — ресторан, — признался он. — Предпочитаю еду, приготовленную дома. Она куда вкуснее. Что может быть лучше домашнего обеда!
Незнакомец ласково обеими руками погладил свой пакет и продолжал:
— Я лично терпеть не могу пошляков. Если говорить конкретно, я имею в виду людей, которые недовольны своей жизнью, этих бедняг, этих жалких созданий…
Даниэль насторожился. Уж не собирается ли этот толстяк наговорить ему дерзостей? Что хотел он этим сказать? Возможно, притворившись спящим, он подслушал его разговор с Флавией? Однако, заметив благодушное выражение лица и мягкий, участливый взгляд своего странного попутчика, Даниэль не стал перебивать его.
— …Этих жалких созданий, которые, не умея жить и ценить жизнь, поворачиваются к ней спиной. Они, подобно Танталу, тоскуют о недосягаемом благе, и это потому, что они — наивные горемыки! — не понимают одного: нет большего блага, чем то, что находится рядом с нами. За пределами нашего бытия нет ничего, кроме пустоты, мрака и отчаяния.
Немного помолчав, он улыбнулся и продолжал:
— Критический ум разрушает все, к чему прикасается. Потому, что такой ум немилосерден и жесток. Критика, которую мы находим в книгах, — штука занятная, но в жизни… Если мы критикуем собственную жизнь, то тем самым уподобляемся обнаженным, оказавшимся в пустыне. И наоборот, если мы умеем ценить самые обычные повседневные мелочи, если в нужную минуту у нас достает мужества увидеть поэзию в традициях нашего дома, в корзине с чистым бельем, ожидающим, когда его выгладят…
Тут Даниэль не выдержал и перебил собеседника:
— Ну вас хватает смелости называть это поэзией?
— Конечно! — ответил тот с улыбкой человека, разговаривающего с ребенком. — Такая поэзия самая значительная, самая доступная, потому что она наша, собственная. Мебель в нашем доме, дымящийся супник посреди стола…
Он опять помолчал, а потом вдруг спросил:
— Неужели вы не чувствуете себя счастливым, когда заводите часы в вашей столовой?
Даниэль тупо уставился на него. Он вспомнил, что в столовой его дома действительно висят старые часы, которые давно уже никто не заводит. Он даже не знал, пригодны они еще или нет.
— Часы — это все равно что сердце в твоем доме, — заключил любезный пассажир и, слегка наклонив голову, вышел в коридор.
Когда Флавия вернулась в купе, она заметила, что Даниэль мрачен и чем‑то расстроен.
Читать дальше