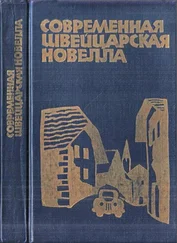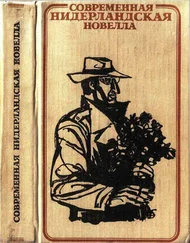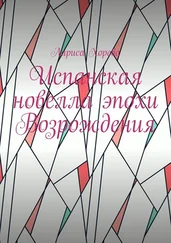— Очень мило… в самом деле, мило, — передразнил он сердито дона Андреса.
Ну можно ли так говорить о его трагедии «Барабаны бьют по обнаженному черепу Мафусаила», трагедии жестокой, святотатственной и вместе с тем девственно целомудренной, со звукоподражанием, в шестнадцати актах и с эпилогом, написанным белыми стихами?
Он раскрыл папку с документами и стал приводить их в порядок, чувствуя, как слезы гнева застилают глаза. Чтобы хоть как‑то разрядиться, он яростно принялся гасить в пепельнице сигарету и, зловеще поглядывая вокруг, процедил сквозь зубы:
— Сентиментальная проза… Да он просто дурак!
Ему вспомнился финал последнего акта трагедии.
НИСЕФОРО. И зачем тебе э™ тридцать ночных горшков?
НИКАНОРА. Чтобы класть туда для захоронения зародыши моих детей от Никодемо.
НИКОЛАСА (с довольной улыбкой). От Никодемо, отца твоего брата Никасио, который убил свою жену, потому что Застал ее в объятиях собственного отца?
Такие острые, сумбурные, насыщенные катастрофами пьесы могут нравиться, а могут и не нравиться, но называть их сентиментальной прозой — сущая ересь. Дон Андрес, наверпо, даже не заметил, что имена всех персонажей начинаются со слога НИ. А если бы и заметил — что весьма сомнительно, — вряд ли бы ему удалось раскрыть значение подобного совпадения: абсолютное отрицание, ничего не значащие слова на тарабарском языке. Мог ли дон Андрес понять этот глубокий Замысел, если его не уловил ни один из семидесяти четырех театральных антрепренеров Испании, которым автор разослал свое произведение?
Домой он вернулся в дурном настроении, прямо прошел в свой кабинет, даже не поздоровавшись с женой, уселся там За письменный стол и приготовился начать новое произведение. Однако, как не раз случалось в последние месяцы, вдохновение упорно не появлялось. В голову не шли нуяшые мысли — ни старые, ни новые, ни символические, ни реалистические. Его очень беспокоил доклад об удобрениях для «МАРИСА». Он никак не мог вспомнить, написал ли он «…в том, что касается данной компании…» или «…в том, что касается данную компанию…», и сомнения мешали ему спокойно думать о чем‑нибудь другом.
За ужином он сидел молча, лишь изредка поглядывая ка жену, к десерту даже не притронулся и снова удалился в кабинет. На мгновение ему показалось, что муза сжалилась над ним — в голове зашевелились кое — какие мысли.
Он сел за стол, достал несколько листков бумаги, поспешно принялся исписывать их, потом вдруг остановился и прочитал написанное. Ему не понравилось. Поэтому листки были скомканы и брошены в корзину. После этого он застрочил снова.
И тут дверь тихонько приотворилась, но он, казалось, ничего не замечал и только лихорадочно продолжал писать. Жена подошла к нему сзади и положила руки на его плечи.
— Эухенио…
Он вздрогнул, поднял голову и, обернувшись, угрюмо уставился на нее.
— Ты меня испугала. Я не слышал, как ты вошла.
— Прости, — ласкаясь к нему, замурлыкала Глория. — Разве не пора бай — бай? Ты ведь устал.
На Глории была прозрачная ночная рубашка. Поерзав на месте, он резко повернулся к столу, стараясь избежать ласк жены. Он знал, куда она клонит.
— Неужели не видишь, что я работаю? — буркнул он, пытаясь отвести от себя ее руку.
— Ты готов заниматься чем угодпо, лишь бы не замечать меня, — вспылила Глория, и голос ее звучал уже не ласково, а скорее презрительно, — Если бы ты хоть что‑нибудь интересное сочинял, за что платят деньги… И ты еще называешь Это работой.
Глория с презрением ткнула пальцем в исписанные листки. Эухенио даже не нашелся, что ответить, и только стыдливо прикрыл их руками. Тогда Глория решила снова изменить тактику — вернуться к ласке.
— Пойдем, — вкрадчиво заулыбалась она, — ляг в постельку. Мне нужно рассказать тебе о разных делах.
— Они меня не интересуют. Я хочу сегодня же начать Эту вещь. У меня вдохновение.
Глория громко расхохоталась.
— Ну и оставайся со своей музой. Вряд ли только она…
— Что ты вообще понимаешь? — заревел он, уязвленный ее насмешливым тоном. — Ты, которая не смогла окончить и четырех классов… Еще наступит день, когда я, Эухенио Ионеско, прославлюсь на весь мир, и уж тогда посмеюсь я.
Глория, едва сдерживая негодование, двинулась к двери кабинета. Но прежде чем выйти, она все же выпалила с издевательской усмешкой:
— До завтра, Эухенио Перес… Лоренсо!
Последнее слово она произнесла медленно, с наслаждением чеканя каждый его слог.
Читать дальше