Рабби Ури, замерев, следит за ней, и вдруг его охватывает страх: сейчас муха-Рахель расправит крылышки и улетит, и ее не вернешь, как Исера, как его учеников, как его лучшие годы.
— Закрой окно! — кричит рабби Ури.
— Пусть проветрится, — спокойно отвечает Голда. — Не бойтесь, рабби, не простудитесь.
— Закрой!
— Да я же только что его открыла. Что с вами, рабби?
— Она… она улетит.
— Кто?
— Она, — говорит рабби Ури и тычет пальцем в подоконник.
— Муха? — удивляется Ошерова вдова.
— Да.
— Ну и пусть. Эка невидаль — муха. Улетит одна, прилетит другая.
— Мне не нужно другой, — упрямится рабби Ури.
— Как хотите, — пожимает плечами Ошерова вдова и направляется к окну.
Рабби Ури впивается взглядом в подоконник и что-то шепчет.
— Улетела! — выдыхает он.
Муха-Рахель вспархивает и, кажется, летит к солнцу.
Рабби Ури следит, как она трепещет в воздухе — маленькая, отважная, одна во всей вселенной.
Голда смотрит на понурившегося старика и, как бы в утешение, роняет:
— Она вернется, рабби. Покружится над базаром или над прилавком в мясной и вернется. Хотя, как подумаешь, — что ей у вас делать?
Рабби Ури молчит, и его молчание пугает Голду. Спятил старик, не иначе. Из-за мухи расстроился, из-за простого насекомого. Мне бы его заботы, сердится Ошерова вдова. Теперь с ним не сговориться. А разговор у нее серьезный, не о мухе речь.
— У меня к вам, рабби, просьба. Вы меня слышите?
— Да, да, — говорит старик и рассеянно смотрит в окно. Солнце слепит старые глаза, и в них — что за напасть, что за наваждение! — кружатся, кружатся золотые мушки.
— Поговорите с Ициком, — наседает на него Голда.
— О чем?
— Объясните ему…
— Что?
— Все равно у него с ней ничего не получится.
— С кем?
С его уст слетают не слова, а какие-то жалкие воробьиные крохи, и Голда почему-то жадно клюет их.
— С Зельдой. Маркус Фрадкин никогда не согласится. Поговорите с Ициком… Все почему-то думают, что я, рабби, блудница, что я готова переспать с каждым встречным и поперечным… Вранье! Конечно, я не святая. Но где вы, рабби, видели, чтобы святые были счастливы?
Голда пытается выманить рабби Ури из молчания, как мышь из норы.
— Покойник-Ошер всем вышел: и добротой, и статью. Но он, вы только, рабби, на меня не обижайтесь, не был мужчиной. В детстве он свалился с дерева и сломал ногу. Так говорил он, так говорила его мать. Но он, рабби, не ногу сломал… Я мучилась, терпела, жалела его, а он по ночам мял меня, бил, будто я во всем виновата… Разве баба виновата, что у нее подсвечник, а у мужчины — свеча. А у моего Ошера и свечи-то не было… огарок… А я так хочу, рабби, детей… так хочу… сил моих нет… Вы меня слушаете?
— Слушаю, — бормочет рабби Ури. — Но чем я тебе могу помочь? Детей, как тебе известно, я в последние сорок лет не делаю, — отшучивается он.
— Разве я у вас детей прошу? — смущается Голда.
— Я… и он… — Голда ласково гладит живот. — Ему уже четыре месяца, рабби.
Рабби Ури смотрит на ее живот, на крупные мозолистые руки, на домотканую юбку, и горечь, смешанная с презрением и жалостью, сушит его бескровные губы. В какой из ученых книг, — а их у него три сундука — искать ответ и решение? Чего стоят вся его мудрость, вся его вера, вся его жизнь, если он даже простой бабе не может помочь? Простой бабе!.. А он на что замахивался? Хотел помочь целому беременному несчастьем народу.
— А Ицику ты сказала?
— Нет. Мне нужен не только отец для ребенка, но и мужчина, вы уж, рабби, на меня не обижайтесь.
— Что ты говоришь! Побойся бога! — вспыхивает рабби Ури. — Ладно, я поговорю с ним.
— Только про живот ни слова!
Окна распахнуты настежь, небо чистое, как весной. Где-то на ветке шебаршит галка, и соседский кот плотоядно выгибает спину.
— Я отблагодарю вас, рабби.
— Чем?
— Я поймаю вашу муху.
И Голда прыскает. Рабби Ури никогда еще не слышал, чтобы еврейка так громко и раскатисто смеялась. То и впрямь был смех счастливой блудницы, счастливой даже в своем несчастье, свободной, не морочащей себе голову неземными заботами, а земные заботы принимающей как радостное, хоть и тяжкое, бремя.
Он всегда завидовал ей и прощал то, что не прощал никому — ни себе, ни другим. Голда могла залиться смехом во время богослужения в молельне, нарушив стройное течение молитвы, захохотать у свежей могилы, и он на нее не обижался, потому что знал: Голда смеется назло всему — смерти, клевете, невзгодам, отстреливаясь смехом, как раненый солдат, не желающий угодить в плен к неприятелю.
Читать дальше
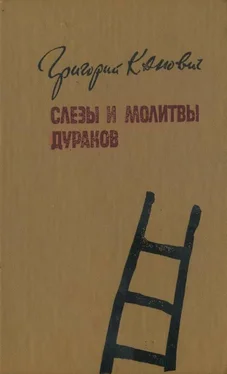








![Григорий Канович - Киносценарии, 1982. Второй выпуск [альманах]](/books/396197/grigorij-kanovich-kinoscenarii-1982-vtoroj-vypusk-thumb.webp)