
Григорий Канович
Слезы и молитвы дураков
Роман
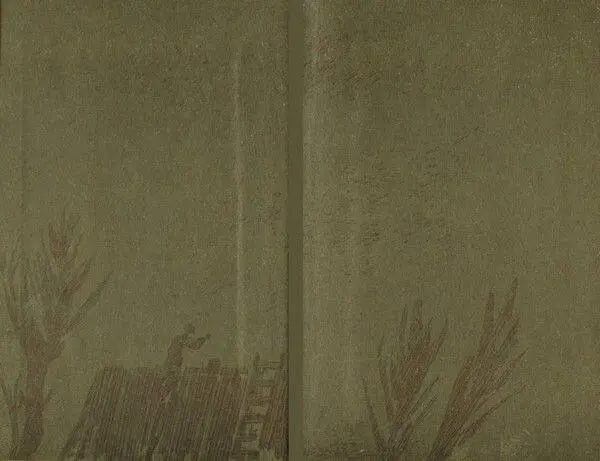
— Душа больна, — пожаловался рабби Ури, и его любимый ученик Ицик Магид вздрогнул.
— Больное время — больные души, — мягко, почти льстиво возразил учителю Ицик. — Надо, ребе, лечить время.
— Надо лечить себя, — тихо сказал рабби Ури. Он поднялся со стула и подошел к окну, как бы пытаясь на тусклой поверхности стекла разглядеть и себя, и Ицика, и время, и что-то еще такое, неподвластное его старому, но еще цепкому взору. Боже праведный, сколько их было — лекарей времени, сколько их прошло по земле и мимо его окна! А чем все кончилось? Кандалами, плахой, безумием. Нет, время неизлечимо. Каждый должен лечить себя и, может, только тогда выздоровеет и время.
Рабби Ури стоял у окна и смотрел на пустынную улицу местечка. Все спят. Во сне время меняет свой лик. Во сне нет ни царей, ни урядников, ни безумцев. Нет. Пока не придут и не разбудят.
— Послушай, Ицик! Ты можешь мне ответить, почему все спят, а мы не спим? — спросил рабби Ури и погладил бороду. Прикосновение к ней всегда дарило ему что-то похожее на просветленность. Он как бы подбрасывал в огонь полено, и искры освещали мрак его души и жилища. — Почему мы не спим? — повторил он и уставился на своего ученика.
— Не спится, ребе, — уклончиво ответил Ицик и тут же спохватился: негоже отвечать на вопросы учителя с такой легкомысленной поспешностью, ответ должен вызревать дольше, чем вопрос.
— Подумай, сын мой, подумай, — процедил рабби Ури и снова погладил бороду.
Чем думать, лучше лечь и заснуть. Они и так допоздна засиделись. И чай остыл в кружках, и глаза у него, у Ицика, слипаются. Хорошо еще — жены нет, никто дома не ждет, супружеская постель — не чай, остынет — не согреешь.
Ицику Магиду жалко рабби Ури. Если бы не эта жалость, он бы сюда приходил только на праздники. Рабби Ури скоро умрет, еще в позапрошлом году ему перевалило за восемьдесят, успокоится его душа, исцелится. Могильные черви — лучшие лекари.
— Ну, что придумал? — перебил его учитель. — Почему мы с тобой не спим?
— Не знаю, — чистосердечно признался Ицик. Он не спит из жалости, а рабби Ури — от старости. Для старого ночь — шаг к смерти, для молодого — шаг к утру.
— Кто-то должен, сын мой, бодрствовать. Кто-то должен, когда все спят.
— Сторож Рахмиэл бодрствует. Слышите, ребе, как он стучит колотушкой.
— Не слышу.
— Он же под окном ходит, — удивился Ицик. Неужели рабби Ури оглох? Слова слышит, а колотушку — нет.
— Тот, кому платят, не бодрствует, а работает, — сказал учитель.
— Какая разница? — опешил Магид.
— Тот, кому платят, слышит звон монет, а не крик души, — не повышая голоса, ответил рабби Ури. — Он сторожит богатство, а не боль.
— А зачем… зачем, ребе, ее сторожить?
— Чтобы не родила.
Старик спятил, подумал Ицик Магид и устыдился своих мыслей. Как-никак рабби Ури не чужой ему человек. Он столько для него, сироты, сделал. Можно сказать, на ноги губошлепа поставил. Если бы не рабби Ури, быть бы ему, Ицику Магиду, вором, бродягой, перекати-полем. Старик его и от рекрутчины спас, позолотил уряднику руку, а то забрили бы…
— Кого родила? — спросил Ицик не столько из любопытства, сколько из почтения.
— А кого, по-твоему, она рожает?
Ицик Магид не станет ломать голову, кого рожает боль. Рабби Ури сейчас попотчует его каким-нибудь изречением из библии, сошлется на непогрешимого Моисея или мудрого царя Соломона, расскажет на сон грядущий притчу собственного сочинения, погладит бороду — в ней вся отгадка.
— Боль, да будет тебе известно, рожает смерть… безумие… ненависть, — только и бросил учитель, глянул на Ицика и добавил: — Утомленный мозг подобен верстовому столбу: дерево, но не плодоносит. Ты, я вижу, сын мой, устал. Ступай домой.
— А вы?
— Я дома, — усмехнулся рабби Ури.
— И вам пора ложиться.
— Лягу, лягу, — заверил старик. — Это дело нехитрое. Не то, что встать. Иди, сын мой, иди.
Но Ицик почему-то медлил. Он смотрел на рабби Ури и ждал еще каких-то слов. Каких — он сам не знал, только не этих пресных «иди, сын мой, иди». Эти слова были такими же невнятными, как весь дом учителя, как обшарпанные стены, как керосиновая лампа с нелепым колпаком. За этими словами, как за яичной скорлупой, стояло еще что-то, и это угнетало Ицика. Он чувствовал: истинный их смысл вылупится позже и не даст до утра уснуть. С ним такое не раз случалось: придет домой, разденется, плюхнется на кровать, и вдруг слова рабби Ури обступят его, как щенята, и давай лаять и кусаться. А иногда слова учителя багровели в темноте ягодами калины, и от этой красноты становилось невмоготу и до тошноты першило в горле. В такие минуты Ицику казалось, что любимый его учитель имеет дело не только с торой, но и с нечистым, хотя рабби Ури и клялся, что у евреев есть всё, кроме леших и вурдалаков.
Читать дальше
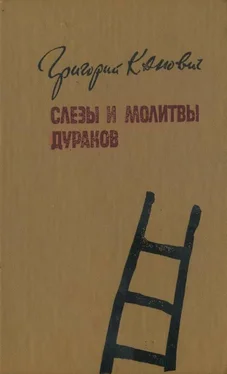

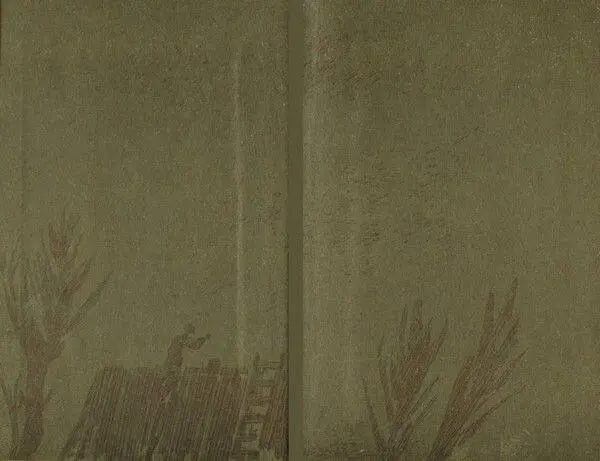








![Григорий Канович - Киносценарии, 1982. Второй выпуск [альманах]](/books/396197/grigorij-kanovich-kinoscenarii-1982-vtoroj-vypusk-thumb.webp)