Таким образом, все дела были улажены. Я проехал по городу, купавшемуся в спокойном и целительном свете весеннего заката, мимо университетского городка, где я более или менее честно зарабатывал себе на хлеб, доехал до аэропорта, сдал прокатный автомобиль, забрал экзаменационные работы, привезенные моим верным ассистентом, и сел в самолет, отправлявшийся в Нью-Йорк.
Наверное, было вполне закономерно, что, как только я занял свое место в самолете и увидел, как уходят в небытие зеленые холмы Теннесси, меня охватило сильнейшее недовольство самим собой. Не надо было мне рассказывать эту историю из Тита Ливия — да я, собственно говоря, и не собирался, она просто вспомнилась мне в ту минуту.
Но теперь у меня было время сообразить, что, излагая этот эпизод с заточением в темницу, я допустил непозволительную для ученого фактическую ошибку. Я вдруг вспомнил, что, кроме пары галлов, в темницу была заточена еще и пара греков — я, сам того не сознавая, выкинул эту лишнюю пару, потому что ее присутствие смазало бы блестящую идею моего иносказания.
И теперь, в самолете, эти легкие угрызения совести из-за научной неточности лишь прикрывали собой более глубокое чувство стыда.
Ах, если бы только я, покончив с этой историей из Тита Ливия и с несчастными галлами, встал с постели, попрощался и бесследно исчез! Но нет, я остался лежать, не сознаваясь самому себе в том, что предвидел — и хотел ощутить — это прикосновение руки, за которым последовало некрофильское продолжение — некрофильское, потому что Розелла Хардкасл-Каррингтон в эту минуту была уже мертва для меня, хотя ее «corps charmant» и могло совершать нужные телодвижения, как дергается лапка мертвой лягушки, когда через нее пропускают ток.
И у меня перед глазами встала она — такая, какой я видел ее в последний раз. Покончив со своими автоматическими телодвижениями, она перевернулась на живот и лежала ничком, как неживая, укрытая до ягодиц простыней, обхватив руками подушку и зарывшись в нее лицом. А я, наскоро умывшись, стоял посреди комнаты и в последний раз разглядывал это прекрасное «corps charmant», лежавшее на кровати.
Глядя на запад, где над просторами огромного континента садилось солнце, я понял, что лучше всего мне сейчас встать и пройти в хвост самолета, в туалет. Что я и сделал.
Укрывшись там и заперев дверь, я сел на крышку унитаза, закрыл лицо руками и дал волю слезам.
Конец им положило, возможно, то обстоятельство, что я, будучи историком литературы и ценителем красивых образов, даже не относящихся к моей узкой специальности, вдруг вспомнил одну подходящую к случаю цитату из стихотворения Йейтса «Безумная Джейн и епископ», где Йейтс дивится тому, как любовь способна возводить свой дворец на куче навоза.
Что ж, если учесть мое местонахождение в эту минуту и мое душевное состояние, цитата была действительно подходящей.
И очень смешной — так, по крайней мере, мне показалось. Во всяком случае, она помогла мне преодолеть кризис. Я сполоснул лицо холодной водой, причесался и вернулся на свое место.
Устроившись в гостинице «Вест-Марк», я не выходил из номера до тех пор, пока не истек оговоренный срок. Я даже распорядился, чтобы мне туда приносили еду. Я не хотел пропустить минуты, когда зазвонит телефон. На сей раз никакая цитата не помогла мне преодолеть этот кризис молчания, но при мне были экзаменационные работы, сознание профессионального долга и бутылка теннессийского виски. Правда, льда к нему я не заказывал до самого обеда.
Не знаю, долго ли еще я мог бы жить той жизнью, какой жил в Нашвилле, со всей ее напряженностью, ложью, раздвоенностью и сомнениями, спасения от которых я искал, очертя голову бросаясь в бездну сексуальности, где время прекращало свое течение. И когда я бежал из Нашвилла, это было бегство в мир, где время течет привычно и размеренно, благодаря чему в конечном счете и можно существовать. Приехав в Париж, я как никто влился в этот размеренный поток времени. Я спал на пропитанном бедностью и взбугренном нищетой матрасе, завтракал вчерашним круассаном и чашкой чуть теплого шоколада, спешил в Национальную библиотеку, всячески урезывал себя за обедом, ужинал в одиночестве в какой-нибудь забегаловке, где подавали такое мясо, по сравнению с которым ничем не приправленная конина показалась бы эскалопом из телятины a la Vaudoise от Фуке, и, вернувшись домой, погружался в одинокий, хотя и не всегда безгрешный сон. Я сам стирал в раковине носки, белье и рубашки из синтетики, которые не нужно гладить. Горничная в гостинице полностью гармонировала со всем остальным: она страдала золотухой и расширением вен, была ворчлива и напрочь лишена прославленного галльского остроумия. Больше того, мне даже ни разу не довелось встретить ни одной из тех американок, которые приезжают в Париж учиться по стипендии фонда Фулбрайта и обычно сидят одинокие, как прыщ, в кафе «Дё Маго».
Читать дальше
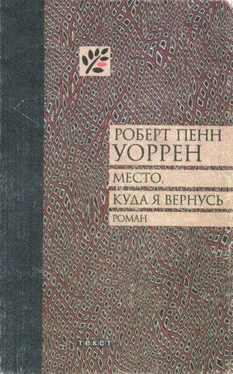





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
