Но, как ни странно, я радовался и ранним дымным сумеркам, волочащим свое беременное брюхо по крышам домов. На ночных улицах, где в тумане фары встречных автомобилей расплывались в бесформенные светлые пятна, как брызги краски, размазанные пальцем, я кутался в этот туман, словно в темный шерстяной халат, скрывавший меня от чужих взглядов. А однажды к вечеру, когда пошел первый снег, я доехал на трамвае до озера и несколько часов гулял по берегу, глядя, как порхают над темнеющей водой редкие снежинки, принесенные ветром с просторов севера. К тому времени, когда небо совсем померкло, их стало больше, и они уже не порхали, а неслись в режущем лицо, как десяток брошенных ножей, потоке черного воздуха, становясь белыми только непосредственно перед глазами. Я ощущал, как они намерзают у меня на бровях и ресницах, и, глядя на разбивающиеся о камни волны, тешился мыслью, что я — последний человек на земле, что впереди меня нет ничего, кроме озера и слепящего снега, а позади — ничего, кроме тундры, и единственный мой долг, или мое несчастье, — необходимость выжить. Я обнаружил, что в этом тоже есть своеобразное счастье.
Было уже поздно. Я вернулся в чердачную комнатушку, которую снимал в полуразвалившемся доме неподалеку от университета, с этим новым ощущением счастья. В основе его лежало отсутствие прошлого. Если с вами никогда ничего не происходило, вы можете быть счастливы. И будете счастливы завтра, потому что и сегодня ничего не произошло, если, конечно, не считать того голого факта, что вы прожили еще один день. Наверное, можно сказать, что это счастье — порождение чувства самости: когда перед вами разбиваются о камни темные волны, подгоняемые режущим снежным ветром, а позади простирается тундра, вы осознаете эту самость как вот это воспринимаемое вами мгновение между несуществующим прошлым и несуществующим будущим.
Не знаю, насколько глубокими можно считать эти философские размышления, которым я предавался в ту ночь первого снега, вернувшись с прогулки по берегу озера, но только после того, когда вызванная ими эйфория прошла, я заметил на полу конверт с маркой срочной доставки, адресованный мне на факультет, — вероятно, его подсунули мне под дверь. Я вскрыл конверт (обратного адреса на нем не было) и обнаружил в нем заметку из «Знамени Нашвилла», датированную несколькими неделями раньше, где говорилось, что профессор Джедайя Тьюксбери, хорошо известный молодой ученый, внезапно покинувший тамошний университет, теперь, проработав лето в Париже, преподает в Чикагском университете. Заметка, хотя и аккуратно вырезанная ножом или ножницами, выглядела так, словно потом ее скомкали и сунули в карман или в сумочку, а потом разгладили и с помощью клейкой ленты наклеили на листок бумаги. Внизу на листке было написано: «Угадай, кто!»
Я угадал, кто. Я угадал даже почему. Давным-давно, так давно, что я даже не мог сосчитать, сколько времени прошло с тех пор, однажды днем на смятой кровати в полутемной комнате, когда Джедайя Тьюксбери уже чувствовал приближение завершающего взрыва, некие мелкие, очень острые и, как он знал, жемчужно-белые зубы сомкнулись на его плече в миг последнего судорожного объятия. В ответ на кощунственно выраженное им недовольство обладательница зубов, высвободившись из объятия, сказала, что просто хотела оставить на нем свою отметину, чтобы он всегда помнил, как это было с ней. Потом ранка от зубов зажила, и никакого следа от нее не осталось. Но теперь он держал в руках эту помятую вырезку — и она была острее, чем те жемчужные зубы.
Он окинул взглядом свою чердачную комнатушку с узкой железной койкой в углу, бросил вырезку в картонную коробку, служившую мусорной корзиной, лег на койку и заснул крепким сном без сновидений, как будто никакого прошлого не существовало.
Но оно существовало. И неделю или две спустя на тот же факультетский адрес пришел роскошный конверт, в котором была открытка со смешным рисунком — маленьким ребенком в виде голого херувимчика в сомбреро и со шпорами на ногах, скачущим на мустанге. Под рисунком было описание примет некоего Джеймса Кадуолледера Кадворта: «Дата рождения — 25 сентября, пол — мужской, вес — 3400 г, волосы — рыжие». На обороте открытки было написано, что, если Джеда Тьюксбери назначили крестным отцом Джимми Кадворта, то не потому, что родители вышеупомянутого Джимми, верующие члены епископальной церкви, считают вышеупомянутого Дж. Тьюксбери имеющим какое бы то ни было влияние на небесах или способным научить чему-то хорошему даже крысу, не говоря уж о двуногом создании, сочетающем в себе все похвальные качества Сократа, Джорджа Вашингтона, Роберта Ли и Альберта Эйнштейна, а потому, что вышеупомянутый Дж. Тьюксбери может служить наглядным предостережением, постоянно напоминающим о том, к чему приводят моральная нечистоплотность, вероломство по отношению к друзьям, праздность и чрезмерная склонность к виски. Ниже рукой Салли было приписано:
Читать дальше
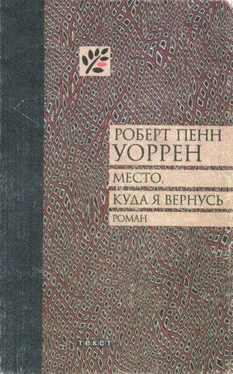





![Роберт Уоррен - Рассказы [Компиляция]](/books/419993/robert-uorren-rasskazy-kompilyaciya-thumb.webp)
