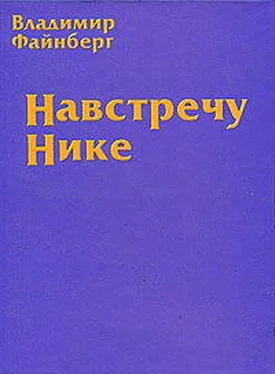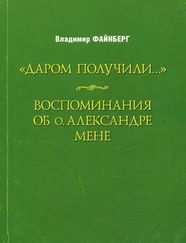В тот вечер А. М. повел меня от Центрального телеграфа по улице Горького к Елисеевскому магазину, где купил «чекушку» водки.
— Топаем в пивбар на Пушкинской площади, там дольём водку в пиво для крепости, будем пить этого «ерша», так все делают – дёшево и сердито. Прочтём друг другу написанное за время, что не виделись. Как там поживает Жёра Старожюк? Хорошо у них было?
— Век не забуду, – ответил я и больше не стал распространяться.
Вообще не хотелось делиться тем, что произошло во время скитаний, ни плохим, ни хорошим. Потом всё это, так или иначе, стало вторгаться в стихи. И эти новые стихи начали изменять меня! Да, да, это закон творчества. Не всегда рационально объяснимый, таинственный.
В пивбаре на углу Тверского бульвара и Пушкинской площади, расположенном в давно исчезнувшем теперь невзрачном доме дореволюционной постройки, что называется, дым стоял коромыслом. Среди галдящей за мраморными столиками публики сновали официанты с гроздьями пивных кружек в обеих руках, с подносами уставленными тарелочками, полными мочёного гороха, солёных сухариков, раков. Некоторые счастливцы с размаху шлёпали по мраморной поверхности столиков принесённой с собою воблой. Чтобы сбить с неё чешую. Здесь не продавалась водка. Запрещено было даже приносить её. Но все доставали из карманов «чекушечки», они же «мерзавчики» и тайком подливали водку в покрытые шевелящейся шапкой пивной пены пол–литровые кружки.
Мы с А. М. не без труда нашли два места. Едва успели сделать заказ, как, оставив свою подвыпившую компанию, к нам подсел ещё один знакомый по литературному объединению. Он был чуть старше нас, но уже несколько потёрт жизнью, лысоват. Когда удивлялся, морщинки на его лбу поднимались. Время от времени рыгал в два такта и при этом обязательно говорил: «Ап–тека!»
Много позже он уехал в Америку, стал скандально известным прозаиком. Терпеть не могу его книги. Но тогда, в этом пивбаре, он прочёл стихи, которые, как видишь, я запомнил до сих пор: «Зайти на телеграф, очухавшись едва, и непонятный бланк подать в окошко. Чтобы потом озябли все слова, бредя по проводам продрогшим. И чтобы их в Москве остановили, чтоб дверь её открыли впопыхах. И вовсе ничего не объяснили. А только отогрелись на губах».
В конце вечера, когда мы с А. М. расплачивались, именно этот человек сказал, как бы между прочим, что арестован поэт–лейтенант.
Мы вышли втроём. Было очень скользко, гололёд, Чтобы я не грохнулся, приятели взялись проводить меня до дома.
Сообщение поразило меня, как гром. Я понимал, что поэт–фронтовик с орденами и медалями, нашивками за ранения, необыкновенно добрый, не мог совершить ничего плохого. Шёл, вспоминал про себя его странные, грустные стихи: «Мы актёры, богема, и где уж нам обладать существом дорогим? Всем известно, хорошие девушки всегда уходят к другим».
Всплыло в памяти, как он сказал «монтаж» по поводу увиденной в газете фотографии Ленина и Сталина на скамейке…
Мы уже подходили к углу улицы Горького и моей улицы Огарёва, как А. М. обратил внимание на двух идущих впереди девиц.
— Потряс! Великолеп! – воскликнул он, быстро спросил: – Дойдёшь сам?
— Дойду.
Приятели бросили меня, устремились за девушками. К моему изумлению, те позволили взять себя под руки.
«Примбуль, потряс, великолеп», – пробормотал я, думая при этом, что нужно каким–то образом срочно спасать лейтенанта. Писать письмо Сталину казалось теперь делом опасным и глупым.
— Без двадцати двенадцать! Где ты был? – встретила меня мама на пороге комнаты.
За её спиной я увидел невероятное: папа лежал перед отодвинутым обеденным столом в кальсонах и нижней рубашке на полу, на расстеленных газетах.
— Пришёл твой второгодник?! Явился? – закричал он, продолжая лежать и потрясая перед собой кулаками. – Защищаешь его? Балуешь? А он уезжает в другие города, неизвестно откуда берёт деньги, наверное, ворует! Стихи он пишет! Вместо того чтобы решать задачки! – отец неожиданно смолк и закрыл глаза, словно умер от горя.
— Папа, встань, пожалуйста. Прошу тебя! Почему ты так лежишь? Пол холодный… Вот, на подушку.
— Не надо! – снова ожил отец, отталкивая меня. – Водкой пахнет! Вот оно, воспитание! Дожили! Ты! Ты одна во всём виновата, аристократка, мотовка! – энергия в нём иссякла окончательно, он вмиг заснул.
Мама погасила свет и, когда я улёгся на своё застеленное кресло–кровать, со слезами рассказала, что весь сыр–бор начался с того, что она по случаю на свою зарплату купила папе новый костюм, потому что старый совсем истрепался. А мне – пиджак. Назвала ему вдвое меньшую цену, чем всё это действительно стоило. Тем не менее, он взбеленился, заявил, что она – мотовка, что ему ничего не нужно, что в старом костюме ещё можно ходить и ходить, и он не отдаст выбросить его на помойку, а меня следовало наказать за самовольную отлучку в Одессу, с меня вполне достаточно было бы старого свитера…
Читать дальше