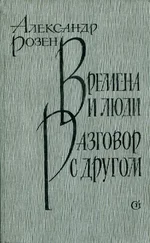Наверное, бежал из России вместе с Врангелем. Для таких, как он, это типично. Уцепился за последний транспорт, повис на руках, слышал, как близко бьют советские пушки, брезгливо смотрел, как дерутся за место их сиятельства, их челядь, их бабы. У Маяковского об этом здорово оказано. Потом — голубой Босфор, призрачные минареты, тяжелое похмелье на кривых улочках Царьграда.
Чего только не пришлось пережить! И улицу подметал в старом Карлсбаде, и грузчиком работал на дунайской пристани, но с золотым образком не расстался, вот он там, на груди, видна мелкая, старинной работы, золотая цепочка.
Биография этого человека становилась мне все более знакомой и ясной.
В Париже повезло. Оценили и молодость, и рост, и шелковистую бородку в память государя императора. И деньги водились. Но от всего отказался. Понятна и жадность, с которой он смотрел на все, что было Россией и Россией осталось. И эта метель — Россия, и эта изба с новым календарем — Россия, и эти люди все-таки больше русские, чем те, с которыми он прощался в Париже.
Я так остро видел, как он с ними прощался, как будто и в самом деле был в это время с ними. Кафе на Бульмише, кажется, оно называется «Кафе Тюрк»; я видел, я слышал, как они сговаривались, как делили деньги, оружие и славу, когда взлетит на воздух большевистский Кремль…
Был уже третий час ночи, метель по-прежнему крутилась и стонала, намело под самую крышу, и всем, кроме меня, хотелось спать. Молоденький солдатик просто качался, перебарывая сон, и все-таки несколько раз клевал носом, но каждый раз вздрагивал и просыпался.
Уполномоченный комендатуры позвал меня в сени покурить:
— Вы, товарищ, приезжий?
— Да, из Ленинграда. — Я представился и даже вытащил сменовское удостоверение, захваченное на всякий случай.
— Что вы, я не к тому… — сказал уполномоченный, прикуривая от моей папиросы. — Похоже, что до света дороги не будет. Я могу не спать, но красноармейцы должны хоть немного. И нарушителю я обязан предоставить отдых.
Мы вызвали Лизу и сговорились так: солдатика на мою раскладушку, сержант подежурит, а потом они сменятся. А тулуп — на печку.
После совещания мы вернулись в комнату.
— Комм, комм, — сказал уполномоченный, — шлафен, шлафен.
Меня сразу как-то кольнуло: с чего это он говорит по-немецки? Я прислушался.
— Найн, найн, обен, — сказал уполномоченный.
— Я, я, яволь…
Ничего в тот момент я не понял. Одно было ясно: оба говорят по-немецки — и тот, кто спрашивал, и тот, кто отвечал. Пока я раздумывал, тулуп уже был на печке, и уполномоченный повторил:
— Шлафен, шлафен. Ферштеен?
Я еле дождался, пока мы снова вышли покурить.
— Он что, немец?
— Самый настоящий. Что вы так удивляетесь? Не то удивительно, что немец, удивительно, что рабочий человек.
— Вот этот?.. Невероятно! Образок на золотой цепочке…
— Ну, образок! Просто в медальончике… была ампулка. А золото, как говорится, «варшавское», дутое. Я сам сначала думал, что легенда, да что там, обе лапы в мозолях. Работал батраком у помещика, потом официантом в большой бирхалле…
— А шрамчики?
— В драке заработал. Это у них вроде заслуга, вроде как лычко на погон. Головорезы, штурмовики, одним словом «наци». «Наци» — это они сами себя так называют.
— Я знаю. (У меня был рассказ в «Юном пролетарии» о рабочем-активисте, избитом штурмовиками.) Но неужели же они…
— Что вы, лезут и лезут! На одной этой заставе уже третий. Вы приезжайте, такого насмотритесь! Если от газеты, так быстро пропуск выправят. — Он послюнил папиросу и спрятал ее в пачку. После нескольких часов молчания, мне кажется, он был рад случаю поговорить.
Мы вернулись в комнату. На печке было тихо, возле нее стоял бессонный сержант, солдатик спал ничком на моей раскладушке, совсем разрушив ее композицию.
— Э-э, слабак, первогодок, — сказал сержант Лизе.
— Идите спать, девушка, — сказал уполномоченный. — Хуже уже ничего не случится.
А я этой ночью так и не заснул. Мне не мешали посторонние люди, не мешала и метель. В двадцать два года, когда хочешь спать — так спишь. Мне не хотелось спать, и потому я не спал и думал. У меня было такое чувство, словно что-то грозное постучалось в дверь, а я стою по эту сторону и не знаю, что с той стороны на меня навалилось.
Никогда еще мне не было так противно мое жалкое сочинительство, и никогда еще я не слышал в такой опасной близости, так рядом, короткого дыхания беллетристики, ее теплых, бирюзовых строчек, ее призрачных минаретов, ее пробковых шлемов, набитых пустыми строчками. «Кафе Тюрк»! Голубой Босфор! Не дай бог быть в положении лжесвидетеля. Разоблачение неминуемо. Приговор ясен. И чем скорее сгорит последний мой листок с фешенебельным особняком в Пасси, тем лучше.
Читать дальше
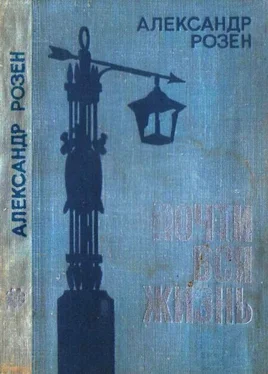
![Александр Карнишин - Вся наша жизнь [Сборник; СИ]](/books/27651/aleksandr-karnishin-vsya-nasha-zhizn-sbornik-si-thumb.webp)