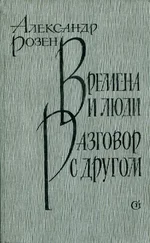Никогда еще я так остро не тосковал по настоящему делу, по железному макету газетной полосы, по трезвому голосу ночного редактора. «Поменьше прилагательных, побольше существительных», — говаривал он. Каких только клятв я не давал в ту ночь суду читательскому, — если бы хоть половину удалось сдержать!
Нас откопали с рассветом. Почти вся деревня лежала под снегом. Илья чуть с ума не сошел, боясь, что я и Лиза ночуем без присмотра, и так обрадовался пограничникам, словно те специально явились посторожить нас. Он даже взялся провожать, достал из подполья ушки, угощал, — кажется, он все-таки выпил прошлой ночью.
Я уехал на следующий день. Мы наелись зайчатины и стали прощаться. Возможно, это была пустая самонадеянность, но мне показалось, что Лиза не очень охотно со мной прощалась. Во всяком случае, она сказала мне самое приятное, что можно сказать писателю. Она прочла очередной номер «Борьбы миров», и ей очень понравился мой рассказ «Сестра штрейкбрехера».
— Очень интересно написано. Ведь этот Гуго, он из бедности сподличал? Я правильно поняла?
Есть две степени стыда. Первая, когда тебя за дело ругают. Вторая — когда тебя не за дело хвалят. Эту вторую я испытал в полной мере.
1967
Петру Алексеевичу Заводчикову
Давно, еще до войны, мне хотелось написать повесть о пограничной собаке. В тридцатых годах я часто бывал на заставах, наслышался разных историй, и почти каждая была так или иначе связана с подвигом очередной Альмы или Ласточки. Я знал многие драматические судьбы пограничных собак и их проводников, но к детективу меня не тянуло, хотелось разработать сюжет психологически достоверно.
Перед самой войной я познакомился с известным советским кинологом и старым военным Ильей Александровичем Ключаревым. Всевозможные истории накапливались и накапливались, но повесть моя почти не двигалась. И получалось так, что, чем больше я знаю, тем меньше могу рассказать.
Я заперся. Не подходил к телефону. Отменил все свидания. Словом, решил взять повесть измором. «Холстомера» явно не получалось, и я стал писать модную тогда «ироническую прозу», что-то вроде пародии на детектив, немного под Хемингуэя, с бесконечно повторяющимся «и».
Кажется, это был май, а может быть, уже июнь, во всяком случае, окна были раскрыты и день был жаркий. Помню, что день был воскресный, и я чувствовал горькое удовлетворение оттого, что все отдыхают, а я работаю.
Часов около пяти я дрогнул и вышел на улицу. Ноги сами потащили меня на Невский. Я увидел рекламу какого-то фильма, помню, что это был шестичасовой сеанс в кино «Рот-фронт», бывшее «Сплендид-палас» и нынешнее «Родина».
Только что окончился сеанс, в зале было светло, и почти в ту же минуту на просцениум вышел паренек в пионерском галстуке и объявил, что сегодня вместо журнала кружок юных собаководов демонстрирует свою работу.
Прошла какая-то минута, прежде чем до меня дошло, что все это не подстроено, не розыгрыш, а случайное совпадение. Потом я решил уйти — довольно с меня, — но дети уже начали демонстрировать своих собак.
Кончилось тем, что я не остался на фильм, а побежал за кулисы, где и познакомился с юными собаководами. Еще когда сидел в зале, еще только они вышли, я уже почувствовал: не хочу писать под «Холстомера» и не хочу писать «ироническую прозу», бог с ними, со всякими пародиями на детективы, а хочу я написать об этих ребятах — рассказ так рассказ, очерк так очерк. И больше всего хочу написать о Диме Уварове, который только что демонстрировал своего Маркиза, великолепную чепрачную овчарку с большими черными пятнами на боках и с небольшим желтоватым пятном на груди. Всегда приятно смотреть, когда большой сильный зверь подчиняется воле человека, особенно если человеку всего четырнадцать лет.
Впрочем, это несколько позднее я узнал, что Диме всего четырнадцать. В «Рот-фронте» весьма весомо прозвучала цифра пятнадцать, а то, что пятнадцать еще не скоро, выяснилось только во время чаепития на шестом этаже старого дома недалеко от проспекта Майорова, где жил Дима с мамой и бабушкой.
Маркиз был обещан Диме еще до своего рождения. Мамин родственник, десятая вода на киселе, но все-таки родственник, в прошлом пограничник, старик, безумно любящий собак, обещал Диме щенка. Когда Дима нес его, завернутого в сто одежек, домой, он всю дорогу думал, как бы поинтересней назвать собаку. Дома щенка поставили на ноги, вытерли за ним, он приподнял голову и вдруг с необычайным достоинством огляделся.
Читать дальше
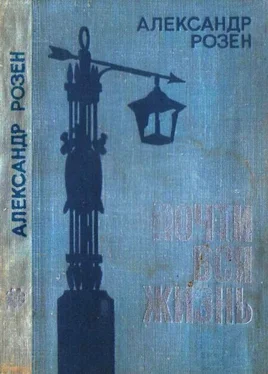
![Александр Карнишин - Вся наша жизнь [Сборник; СИ]](/books/27651/aleksandr-karnishin-vsya-nasha-zhizn-sbornik-si-thumb.webp)