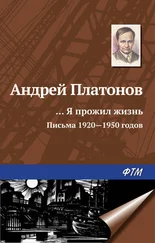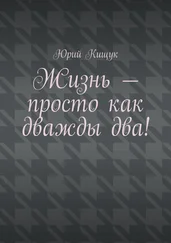И в этот день впервые — после долгих лет молчания — в доме Антона Петровича Павлюка произносили имя, наравне со всеми другими именами, е г о Василинки. Ведь и она заслужила всей своей жизнью право на добрую память потомков, и Анна Лукинична, боясь показаться сентиментальной плаксой, вдруг спокойно сказала:
— Я ходила на кладбище, на ее могилу… — И, ничуть не обескураженная пристальным взглядом мужа, добавила: — Не смотри так, не надо…
— Вот уж никак не предполагал, что ты… — начал было оправдываться Антон Петрович.
— Что я способна на такое?
— Да нет… хотя, впрочем…
— За светлую память Василинки, — предложил Сидоряк, разглаживая пальцами щеточку рыжих усов. — Геройская была девушка… И скажу тебе, Антон, ты плохо ее знал… Как и ее брата, с которым я был вместе в десанте…
— Если уж я не знал… — хотел было возразить Антон Петрович, но вовремя удержался, вспомнив, что рядом сидела жена. Все же для него это была о н а.
Когда поставили пустые рюмки на стол, Анна Лукинична смущенно проговорила:
— До чего же все сложно…
Она имела в виду сложность взаимоотношений между членами своей семьи, но Сидоряк перевел разговор в более широкий план:
— Чем дольше живешь на свете, тем больше убеждаешься: да, сложно. Казалось бы, ну, чем меня можно удивить? А увлекаюсь, удивляюсь…
— Молодеете, Иван Иванович, — попробовал кто-то сострить, но только подлил масла в огонь.
— В том-то и чудо, что молодею! Каждый день начинаю заново, будто в новой роли выхожу на сцену. Благоговею перед всем… Это неверно, будто с годами человек устает…
Из этого памятного дня, кроме общей радости, Антон Петрович вынес и сказанное Сидоряком: «Ты ее мало знал». Он воспринял это как укор: не знал Василинки, а отсюда и вся беда — что там рассуждать о жизни вообще, если собственного идеала не мог понять? Мальчишка! Значит, Анна Лукинична имела основания укорять его тем же. Долго потом мучился, сидя за очерком, а в результате признался Сидоряку:
— Вы говорили правду, Иван Иванович, — не знал я Василинки. Каждый из нас, вероятно, видел ее по-своему. Как ни старался обрисовать ее героиней, не получалось — выходила милой, слабой, хрупкой девушкой, которой более свойственна была мечтательность, нежели твердость подпольщицы. Но этого было достаточно, чтобы остаться удовлетворенным. — Он снова вспомнил дядька Ивана: «А ты вгрызайся в жизнь, как бур в породу!..»
Ненароком взгляд Антона Петровича скользнул по Сашку, и снова проснулась в нем отцовская озабоченность: л ю б о в ь… И тут же мелькнула мысль: не много ли этой любви в изображаемой им человеческой трагедии? Мгновенно спохватился, что в пьесе слишком много влюбленных пар. А между тем мысленно начал искать оправдания: иначе ведь придется перечеркнуть и Царя с Женщиной, и Эммануила с Малой, ну, а в жизни Литвака с Ольгой… Сашка… Перечеркнуть — а следовательно, перечеркнуть человека… Ведь что такое человек без любви? Пожалуй, в этом вся суть человеческого рода — любовь вопреки всем невзгодам утверждает Человека, Человека как разумного хозяина мира. Любовь к матери, к женщине, к ребенку — любовь к жизни. Но к какой? Антон Петрович попытался сделать вывод: любовь направляет к добру, красоте… к правде…
Но в противовес возникал в памяти Курц… Вот она, загадка бесчеловечности — падения с высоты до отвратительнейшего дна.
…Антон Петрович тогда понимал, что наступил конец. Ничего другого ожидать не приходилось. Везде — капут! Всему капут: надежде, дружбе, вере, любви. Кто шел к Курцу, тот заранее уже был готов только к этому варианту — капут.
Он поцеловал каждого из товарищей на прощание. Молча поцеловал. Вообще что можно сказать в такой момент, когда уже все решено? Дядька Иван проводил его до двери барака, подбадривающе похлопал по плечу: держись, Антон!
Снова была белая ночь, он шел через площадь гордо выпрямившись, как человек, имевший на это право. В этом последнем он должен был проявить все свое человеческое достоинство. Он шагал с достоинством и охватывал мыслью такое, что не вмещалось в слова, так гордо и уверенно идут люди и на венчальную церемонию, и на свидание с любимой, и на трибуну, с которой можно обратиться к молодежи… Куда же шел тогда? Куда? В ту далекую ночь… он шел и не думал о смерти. Это была величайшая победа над самим собой — подняться хоть немного выше той отметки, где тобой распоряжается смерть. Он шел и шел, не видя конца этой тесной лагерной площади…
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)