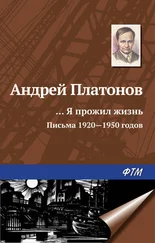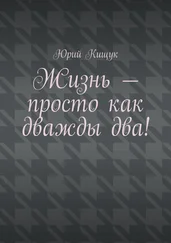Но что это? Снова прошлое подсунуло совести вексель на неоплаченный долг: «Она тебя ждала. А ты привел в дом другую».
Антона Петровича так передернуло, что под ним резко заскрипело кресло. Режиссер оглянулся и погрозил ему пальцем.
— Ты что? — нахмурясь, спросил Павлюк.
— Мешаешь… Сиди тише…
«Так… — подумал он. — Спросить бы сейчас у режиссера: «Почему это я начал всем мешать — и сыну, и жене…» Однако не показывать же себя перед людьми старым ворчуном — довольно и того, что он слыл таковым в своей семье. Правда, ему хотелось пояснить, почему он обращается к милой, уже символической, с которой он научился разговаривать еще тогда, когда она существовала в образе Василинки, чтобы стало ясно, откуда у него этот недостаток:
«Я был тогда таким же наивным, как мой сын сейчас, а может, и еще наивнее. Дядька Иван недаром называл меня мечтателем и смеялся над придуманным мною счастливым миром. Он говорил: жизнь красива именно своей сложностью, борьбой со злом. В борьбе проявляется настоящая суть человека, и только в легенде можно создать модель человека, лишенного всех слабостей… А самое страшное, любимая, — это то, что среди наших мучителей есть тоже обыкновенные люди, но они прячутся от самих себя, живут в скорлупе страха за свою жизнь. Я только теперь понял, как иногда бывает трудно остаться человеком. А вот Курц, этот наслаждается нашими страданиями. Никогда, видимо, я этого не пойму: ведь у него обычный человеческий облик.
Помнишь, это еще было на свободе — наши люди передали известие, от которого мы вдвоем плакали. Твой отец еще был жив, ты говорила, что будто бы и он часто плачет наедине, хотя мне трудно было представить его плачущим. Это было в сорок втором, земля расцветала осенними красками, а над нею простиралось ясное небо, по ложбине тонким рукавом тоже плыло небо, переплеснувшее через горные вершины; оно широко разливалось возле дамбы, а солнце сидело на взгорье и горевало, как старая мать, получившая с фронта печальную весть. Что-то говорило о войне, хотя вокруг было неимоверно тихо — и на земле, и в небе. У тебя в руке было письмо от знакомого, и мы не могли возразить против его письма, возразить против той страшной правды, что на войне убивают… Я тогда впервые физически ощутил ее страшную уродливость, до сих пор война нас как будто бы не касалась, хотя мы ежедневно рисковали жизнью. Я сказал: «Это неправда!» — «Брата больше нет. Он никогда не вернется», — ответила ты, а я пытался как-то утешить: «Может, это неправда». Ты воскликнула: «Зачем себя обманывать? Всех десантников схватили!..»
Антон Петрович вспомнил: они сидели тогда на камнях, приспособленных для стирки белья, сидели на самом краешке отображенного неба, упиравшегося в дамбу, и видели себя в воде, в том, в другом мире, опрокинутом вниз головой, и в нем легко было разместить ту, рожденную фантазией, счастливую жизнь, где нет ни малейших неприятностей. Время от времени набегавшая волна искажала изображение, покачивала (думал: так война внезапно налетает и уродует все кругом), а затем снова небо в воде разглаживалось и снова на камнях сидели в двух мирах две влюбленные пары.
— Отцу я ничего не стану говорить, — проговорила Василинка, — это его может убить.
Вытерла ладонью лицо, встала и отошла от воды. Она была прекрасной, с длинными золотистыми прядями волос, на ней — фиолетовое платьице, перехваченное в талии такого же цвета пояском, внизу расклешенное, напоминавшее чем-то зонтик. Такой она навсегда осталась в его памяти, такою — вместе с прудом, вместе с осенними красками — осталась она в его жизни… Послевоенную ее он не запомнил, хотя и встречал неоднократно. После войны она стала иной… стала его мучением, и до сих пор он расплачивался за ее судьбу угрызениями совести…
Этот затянувшийся процесс оплаты долга начался с момента, когда они встретились впервые после войны и взгляды обоих вскрикнули: «Ты?» И тут же усомнились. «Нет, не ты! Ты не имеешь права быть здесь, со мною. Ведь война произнесла приговор: не встречаться!»
Он пришел на это случайное свидание в тяжелых сапогах, в поношенной одежде.
— Откуда?
Что ответить? С того света, где дикая злоба, где убивают за то, что форма черепа не схожа с арийской формой, за то, что ты просто живое существо и представляешь собою хорошую мишень для упражнений в стрельбе эсэсовских охранников.
Сцена слегка затенена, из-за горизонта поднимается солнце, где-то неподалеку журчит речушка.
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)