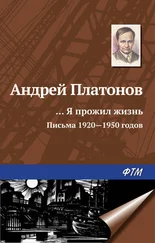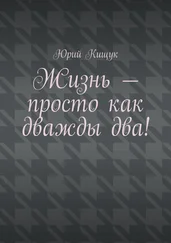Антона Петровича мало интересовала Ольга Лукинична. Для него она была просто непонятной красивой молодой женщиной, ставившей себя слишком высоко. Такой она показалась ему при первой встрече, а после он уже и не пытался изучать ее. Сейчас он более внимательно следил за игрой своего сына и Татьянки, оказавшихся случайно оторванными от людей. Они словно стихийно ворвались в пьесу и, не чувствуя этого, внесли своей трогательной любовью незапланированную сюжетную линию. В какой бы массовой сцене они ни появлялись, даже вопреки логике действия, они все вокруг освещали светом своего счастья, пронося через сюжет драмы свое трепетное, как лепестки цветка, чувство. Проходили, казалось бы, обособленно, вне главных событий пьесы, в своем обособленном мире, жившем по своим сказочные законам. Вдруг возьмутся за руки и побегут с детским восторгом, словно только что выхваченные из «Теней забытых предков». «Стой… откуда ты?» — «Из Яворова…» — «А чья ты?» — «Ковалева». — «Будь здорова, Ковалева!» А над болотом будут передразнивать лягушек: «Кумма-кумма, что сварила?» — «Буряк-борщ, буряк-борщ». И так долго, так громко, закрыв глаза, будут «кумма-куммкать», что все лягушки умолкнут. «Бурряки-ки-ки! Бурряки-ки-ки!»
Именно это и взволновало Антона Петровича — наивность. А после спохватятся, да будет поздно… «Надо бы с ним поговорить». С этим решением он носится вот уже несколько дней, потому что не знает, как можно говорить с сыном о таких серьезных вещах, — никогда ему и в голову не приходило распространяться в разговорах с детьми об интимных вопросах. «Бурря-ки-ки! Бурря-ки-ки-ки!» — назойливо лезло в голову глупое звукосочетание. «Сын совсем еще мальчик, — думал он, — а я вынужден говорить с ним о мужских делах!» Смотрел на парня — может быть, впервые в жизни так пристально — и сокрушался: ребенок!
Сашко был долговязым, с необычайно белым лицом и постоянно удивленным взглядом. Первое, что бросалось в глаза, — его длинные ноги, руки, тонкий, вытянутый овал лица. А вот пришла любовь, и куда девалась мальчишеская угловатость — все увидели его таким, каков он есть, и решили: хороший парень.
Татьяна Сивец, или просто Татьянка, как ее все называли, и вовсе казалась с виду подростком, у нее было кругленькое личико, на загляденье пышные волосы, для всех она была миловидной, наивной девчушкой, и к ней относились как к дочери, угощали сладостями, даже режиссер, который всех называл по имени-отчеству, называл ее Татьянкой или доченькой.
Два юных существа на какое-то время оттеснили на задний план людей, шедших по авансцене, и Антон Петрович видел только их, счастливых своим увлечением, своей неразлученностью. Придирчиво следя за их движениями, за тонкой мимикой лиц, не знавших фальши, он с настойчивостью исследователя взялся озвучивать немую сцену, вкладывая в нее сарказм обиженного отца:
Сашко страстным продолжительным взглядом смотрел на Татьяну, и губы его выгнулись тоскливой дугой. — Когда расстаемся, меня всегда охватывает страх, что ты бросишь меня.
Девушка повела бровями.
Сашко осторожно осмотрелся, не видит ли кто-нибудь, взял в свою руку кончики ее пальцев. — Зачем ты такое говоришь?
— Татьянка, я люблю тебя, ты же видишь, что я не могу быть без тебя ни одной минуты.
Татьянка опустила вниз глаза, их синеву прикрыли длинные ресницы. — Сашко, не надо, мне стыдно, твой отец смотрит.
Сашко слегка пожал пальцы девушки и отпустил руку. — Почему нельзя любить у всех на виду?
Татьянка п е ч а л ь н о улыбнулась, потом стала подтянутой и собранной, резко отвернулась. — Так надо… Не будем сейчас. Следи за игрой… Мы д о л ж н ы спать…
По лицу парня пробежала тень обиды. — Ни к чему мне эти пьесы, давай поедем куда-нибудь.
Антон Петрович беспокойно передернулся, даже кресло под ним скрипнуло, — поверх сыновнего снова тонким острием проступило свое, легло параллельно. Из тридцатилетней давности протянуло непогашенный вексель: Василинка…
«Велика ли цена?» — спросил мысленно и внутренне весь вздрогнул, потому что знал, каким будет ответ.
«Одно человеческое счастье».
«Но ведь мне тогда было только двадцать… Зеленый юноша…»
Напрасными были попытки оправдываться — собственная совесть определяла точную цену: одно человеческое счастье, и не меньше!
«Но ведь я…»
«Знаю: была война… С мертвых не спрашивают. Оставшиеся в живых — они платят по счету».
«Да, мертвые слово свое сказали — им или слава вечная, или черный позор».
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)