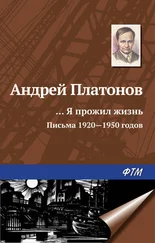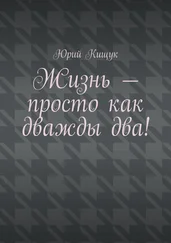«Она ничем себя не запятнала. Ждала всю войну…»
На этот аргумент ответа не находил…
Ее могила в отдаленном уголке старого кладбища, на взгорье, — там хоронили в войну; ее могила появилась последней на этом участке, хотя умерла она уже после войны. Антону Петровичу не требовалось закрывать глаза, чтобы призывать воображение. Маленький, уже порядком осевший холмик, каменное надгробье с высеченными на нем именем и датами рождения и смерти, — ежегодно здесь появлялся букет из белых хризантем; в этот день все кладбище, словно в снежных сугробах, белело хризантемами, и до позднего вечера моргали на могилах свечи. Раз в год — в день поминовения — сюда собирались родственники умерших, приходили, как на свидание, на семейный разговор, и в их печальных глазах дрожащими огоньками свечей оживало прошлое. И только к ее могиле не приходили родные — никого не осталось в живых.
Сейчас Антон Петрович Павлюк невольно увидел это озеро дрожащих огней и сугробы белых хризантем и… счастливые лица Сашка и Татьянки — и все в странном букете, в причудливом переплетении своего, личного, и сыновнего.
Ему тогда тоже было двадцать лет, как сейчас Сашку. Но только дорога его юности проходила не через советскую эпоху, а через лихолетье старой Верховины, загнанной в тюрьмы, за колючую проволоку.
«А что, если бы на моем месте оказался Сашко?»
Хрупкий. Изнеженный… Нет, Антон Петрович никак не мог поверить в сыновнюю выдержку, и это его беспокоило, хотя в глубине души у него пробуждалась гордость за себя и за свое поколение.
«Любимая, я знаю, что это письмо никогда не дойдет к тебе, но я пишу. В воображении. Здесь, в лагере, мы научились делать все воображением. У нас нет бумаги, карандаша, наконец, нас самих нет — тех, прежних, довоенных, мечтательных…»
(А что, если бы Сашко?..)
«Мы переделаны в сгустки зла. В этом дантовом аду мы живем только воспоминаниями и надеждой; воображаемая жизнь. Милая, я держусь только тобой, берегу тебя в своей душе, хотя так и не знаю, жива ли ты еще. Концлагерь — место самое неподходящее для того, чтобы любить, но все мы любим. Любим, как никогда ранее. Это, видимо, является проявлением свойства человеческого духа — идти наперекор судьбе, смеяться над нею. Здесь один из заключенных рассказывал легенду о том, как люди шли через тяжкие испытания к свободной земле, где царят любовь и добро. Теперь мы сообща дополняем эту легенду новыми вымыслами и тем, что переносим сами. В результате мы сами воплотились в живых героев легенды. И дни, и ночи идем мы в ту страну, где надеемся найти любовь и свободу. Это — страшный марш обреченных на казнь. Через преграды! Через тысячи преград! Но мы идем, как призраки, собравшиеся чуть ли не со всех материков. «Вы откуда?» — «Из Европы». — «Вы?» — «Из Африки». — «Из Азии». — «Из Америки». — «Вы тоже к свободе?» — «Да, мы все идем в одном направлении…» Это дядька Иван продолжает рассказанную легенду — эти слова из нее. Загадочный человек, я когда-нибудь расскажу о кем…
Вспоминаешь у Ивана Франко: «Мы с молотами вверх подняли дружно руки, и тысячи кувалд ударили в скалу…» Мы тоже ломаем ужасную гранитную стену, прорываясь к той сказочной земле, где царствует любовь. Эту страну каждый из нас уже создал в своем воображении, смонтировал из рассказов дядьки Ивана. Может быть, эта легенда родилась в его душе от ностальгии, не знаю, но я живу его правдой об этой дивной земле. Мы все живем ею».
Снова для проверки он на свое место ставил сына и снова сокрушался в душе, хотя ясно и не осознавал отчего. Надеясь найти правильный ответ, продолжал повторять слова из того воображаемого письма, которое он писал для своей невесты, поверяя ей свои мысли, боли, надежду, совесть. Это письмо, если бы оно было написано, Антон Петрович сейчас охотно дал бы прочесть своему сыну, чтобы предостеречь его от ошибки, которую когда-то допустил сам. Но главное — он хотел бы заставить сына почувствовать вес человеческой жизни, потому что в душе всегда тревожился тем, что Сашко ко всему подходил слишком легкомысленно. И особенно это чувство усилилось, когда сын раскрылся ему со своим выбором…
«Милая, в этом аду, где в котлах с кипящей смолой каждый из нас обварен до костей и каждого здесь обнажили так, что печем прикрыться, не осталось ни губ, чтобы сделать притворную улыбку, ни красоты лица, чтобы за нею спрятать уродливость души, — здесь все выступают в своей естественной сути: герои — героями, а трусы — трусами. Даже наши мучители ходят здесь без масок, во всей полноте своей звериной сути. Наша судьба находится полностью в руках этих зверей двадцатого века. Дву- и четырехногих собак. В сущности, меж ними незначительная разница. Дядька Иван говорит: это страшная загадка бытия — человек и зверь в одном подобии! Если он когда-либо сумеет завершить свою драматическую легенду, то ты поймешь мои мысли. Милая, я когда-нибудь обо всем тебе расскажу…»
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)