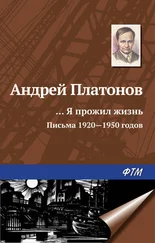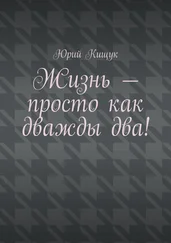— Было поздно, дело шло к ночи, когда все собрались у Василинки. У нее было безопаснее: ее хата стояла на окраине, пустая… отец к тому времени уже умер.
— Василинку ты вспоминал во сне.
— Мы с нею дружили еще с детства…
И замолчал, собирался с мыслями. Вернее, он не знал, о чем говорить, да и нужно ли… Потому что пока все держал в себе, оно казалось ему светлым и большим. Немыслимо большим. Когда и отчего оно стало уже не таким? Что же изменилось? Василинка вовсе не утратила очарования после того, как он встретился с Аней. Но Аня стала более реальной, ощутимой, земной. Она стала той, которую можно было взять за руку, с которой можно было говорить даже о самом будничном.
— Говори, говори дальше…
— Это были, конечно, именины, — продолжал он, спохватившись. — Собрались все члены группы… ну и… Кто-то, видимо, донес, предал.
— И ее тоже арестовали?
— Не знаю… Мы приняли решение не сдаваться…
Больше не спрашивала, не просила продолжать рассказ, чтобы не растравлять тяжелое воспоминание, а он не имел никакого желания говорить дальше. Потому что говорил совсем не то. Или, может быть, не так.
Он долго думал и никак не мог сообразить, что же произошло.
Антон Петрович отмахнулся от нелегких воспоминаний — и снова бросилась в глаза пустота зала, как раз то, что он уже назвал необжитым миром. Вместе с тем он почувствовал какую-то общность между пустым залом и подземельем лесника… Пустой зал… Пустой мир… Жизнь… Ничего не было… Но нет! Не совсем так. Не совсем.
Вопросительно посмотрел на режиссера, сидевшего рядом, хотел что-то спросить, но не знал, как сформулировать свои мысли. А тот спросил глазами: что?
— Да так…
— У тебя сегодня в разговоре почему-то слишком много «да так».
— Давно оно во мне, Семен Романович. Вернее, всегда находится во мне.
— Ты лучше смотри на этот переход, — попросил режиссер.
Видимо, его настораживала эта в какой-то степени более заметная, нежели того хотелось, контрастность между действиями, потому что незначительные изменения в декорации и в сценическом материале перевели повествование в иную плоскость и уже придавали ему реальное звучание. Окончилась эпоха, измерявшаяся неисчислимыми тысячелетиями, с однообразным содержанием: жизнь, творившаяся по законам детства. Путешествовали одиссеи между сиренами, циклопами, Полифемами. От тысячелетия до тысячелетия. И где-то, в какой-то точке терра инкогнита ожидали их верные пенелопы, выращивали телемахов, а те двигались уже к своим троям, в свои тысячелетия, до тех пор, пока с бегом многих-многих веков трои не стали Троей, а одиссеи — Одиссеем. И одновременно начали появляться конкретные цари, короли, императоры. И становились конкретными имена героев-борцов. Кончилось детство человечества…
— Какой величественный автобиографический материал! — увлекался когда-то дядька Иван, поддаваясь своей стихии. — Антон, если останешься в живых, не забудь об этом. Тип царя — через конкретные фигуры: Генрих, Людовик, Николай… Предатель, Подхалим — так же с именами. Но прежде всего — Борец! Спартак, Тайлер, Пугачев… И все это вместе взятое — автобиография. Моя, твоя… другого… Нелегко? Ну, понятно. А жить разве легко? Бороться, умирать?..
Это были муки творчества честного мастера, очутившегося в хаосе, где огромный опыт двадцатого столетия вдруг попал в первобытные джунгли, где люди поменялись ролями с человекообразными. Сама жизнь подсказала дядьке Ивану эту мысль… Он представлял феноменальную сцену, восторгался ею и сожалел:
— Не смогу…
— Создадут другие. Кто будет на свободе, — успокаивал Антон.
— Это можно увидеть только отсюда, из первобытности, — образ миллионолетнего существа в ведущих ролях: Добро и Зло, Любовь и Ненависть…
И вот оно… Так ли представлял себе все это дядька Иван? Хотя бы вот этот эпизод из хрестоматийной всемирной истории…
Угрожающе крича, вооруженная вилами, косами и дрекольем, толпа бросилась к стенам крепости.
Погас верхний свет, действительность шла в мираж полубытия, в темень средневековья — горели факелы, раздавались выкрики, а через мгновенье свет совсем исчез, остановилось время на 1381 году — на мелком штрихе человеческой драмы.
Показался из темноты истории выбеленный монастырскими катакомбами ветхий летописец, встал на авансцене и принялся записывать в анонимную хронику аббатства св. Марии в Йорке события того бурного времени:
«В это время все магнаты этого графства… убежали в Лондон и в другие графства. И в это же время общины Кента… пришли в Рочестер, где встретили большое число общин из Эссекса… И здесь они сделали своим проводником Уота Тайлера из Медстона… Члены общин ходили по разным селениям и поднимали людей… Их собралось до 60 тысяч».
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)