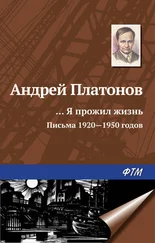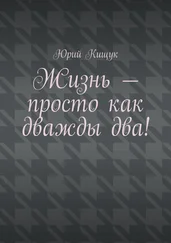Слова летописца заглушаются криком: «Идет! Идет!» Всю сцену заливает яркий свет, появляется Онежко в роли короля Ричарда. На нем те же самые одежды, в которых он шел сквозь легенду в роли абстрактного Царя, тот же грим, чтобы таким образом сохранить единство образа — Царь, Повелитель.
Повстанцы умолкают, и вперед выходит Сидоряк в роли Уота Тайлера:
— Добро пожаловать, наш король сеньор Ричард, мы не хотим иметь другого короля кроме тебя.
Р и ч а р д. Подданные мои, я пришел выслушать ваши просьбы и пожелания.
У о т Т а й л е р. Великий наш король. Мы просим, чтобы ты позволил нам взять всех изменников общин и твоих изменников. И еще мы просим, чтобы никто никогда не служил никому другому иначе, как по своей доброй воле.
Р и ч а р д. Мои подданные, обещаю, что все ваши требования будут исполнены в законном порядке. А сейчас расходитесь все по своим домам.
У о т Т а й л е р. Клянусь тебе, брат, если мы немедленно, сейчас же, не получим желаемых грамот, лорды будут раскаиваться за свое упорство.
Антон Петрович мысленно дорисовал то, чего не позволяла сделать сцена, несмотря на все актерские способности Сидоряка, игравшего роль Тайлера:
«В его прищуренных глазах отражался свет будущих пожаров, сквозь которые должны были пройти обездоленные; где-то там, в глубине веков, видел он свет желанной победы, этот свет горел на высочайшем пьедестале, созданном из жертв эпох и народов. Был уверен, что идет на смерть. Потому что он был и Тайлером… и Сидоряком, жившим в двух эпохах: в роли Уота Тайлера он жил интуицией и опытом артиста, имевшего за плечами революции и восстания, который даже участвовал в штурме Зимнего, а как Сидоряк — придирчиво ощупывал поступки крестьянского вожака XIV столетия, осуждал его за наивное доверие и безрассудную отвагу».
Казнь Уота Тайлера прошла за кадром, как все кровавые сцены в этой постановке. На таком режиссерском приеме настоял Рущак, не допускавший казней и пыток на глазах у зрителей.
Дописывал трагедию седой летописец в монастырской келье:
«И мэр… приказал отрубить ему голову. И повелел наткнуть голову Уота Тайлера на шест и так нести над собою к королю… Когда увидел король отрубленную голову, он приказал поднести ее поближе, чтобы запугать членов общин, весьма благодарил упомянутого мэра за содеянное… После этого король разослал своих гонцов во все места с приказом ловить нарушителей королевского порядка и предавать их смерти… На протяжении всего лета слуги короля вешали крестьян… В конце концов по божьему повелению король увидел, что слишком много погибло его подданных и слишком много пролито крови, и в его сердце вселилась жалость, и он даровал всем отпущение и прощение, при условии, что в будущем они никогда не будут восставать против своего Царя. Так закончилась эта несчастная война».
Монах отложил фолиант, гусиное перо и сказал, возводя очи к небу:
«Господи, сколько люду погибает. Или этого не видно с высокого неба? — Испуганно оглянулся, не услышал ли кто-нибудь, и начал тихо молиться: — Молюсь за всех несчастных, погибших на тернистых путях истории, и за тех молюсь, что погибнут в Жакерии, в крестьянской войне в Германии, в восстании испанских коммунерос, в восстании итальянских чомпи, в крестьянских войнах Болотникова, Пугачева, в Колиевщине и во множестве других. Аминь».
Когда действие дошло до казни Пугачева, неожиданно возникла своеобразная интермедия — старый Рущак вырвался из толпы, окружавшей Лобное место, и крикнул режиссеру и Антону Петровичу:
— Погодите, погодите, люди добрые… А зачем же и во имя чего идет это смещение эпох, переплетение легенды с реальностью? И зачем эти бесконечные казни, казни, казни…
Эта непредвиденная выходка Рущака ни на кого не произвела впечатления, и репетиция проходила бы по намеченному плану, но Рущак продолжал высказывать свои мысли.
— Хорошо, хорошо, Гавриил Степанович, в конце действия обсудим, — успокоил его режиссер, предполагая продолжить репетицию, однако Рущак не мог совладать с собой и не высказать немедля то, что пришло ему в голову, и пришлось объявить перерыв.
Антон Петрович также насторожился, действительно чувствуется какое-то несоответствие. Впрочем, погодите. Ведь стояла же за этим некоторая целесообразность. Да, да, смещение эпох, переплетение призраков, толпившихся на заднике сцены, с живыми героями легенды… Почти голые первобытные существа неизвестно ради чего вгрызаются в скалу. Голыми руками. Коричневые от зноя, страшные от истощения. Возятся с тяжелыми каменьями, падают, обессиленные, под их тяжестью, калечатся, разбиваются насмерть. Никакого смысла нет в этом непостижимом труде. Словно боги наложили тяжкую кару на первобытное племя за какой-то проступок, обрекли его на вечное бесцельное занятие: переносить с места на место глыбы скал и погибать под ними.
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)