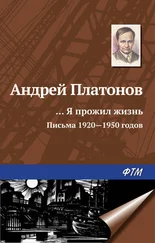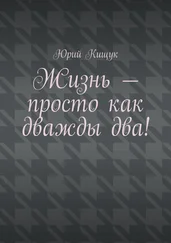А день не кончался, и ночь не кончалась, солнце обернулось луною. Морозило. Над головой расстилалось безоблачное и беззвездное небо. А впрочем, кто его знает, что произошло в мире, куда исчезли звезды, что случилось с людьми?.. «Это горит мой дом, Антон? Ты слишком молод, чтобы понять…» Горит дом людей — Земля…
«А после я шел и уже ничего не соображал, страшился только своего одиночества, преследовавшего меня неотступно с той страшной белой ночи. Милая, когда после этого я встретил ее… пойми меня!»
В ответ — укор совести.
…Не знал, где и когда оборвалась снежная просека в молодом лесу, помнил только, что с ним еще долго-долго играла тень: падал на землю — падала тень, вставал — вставала и она и замахивалась длинной рукой. А может быть, это была не тень, а человек, просивший: «Добейте!» Потом лес исчез, не стало ни неба, ни земли. Собственно, ничего не было, только сизое марево, и из него выглядывали умные и строгие глаза дядька Ивана, и путались слова о человеке: кто ты?
А потом…
Ее глаза… Самое первое, что увидел, — ее глаза…
А затем увидел и ее лицо, оно показалось ему самым лучшим из всех лиц, виденных им когда-либо. Это было первое, что появилось в его мире после того, когда не было ничего, после пустоты, небытия.
— Василинка…
— Меня зовут Аня.
(Таня! Татьянка!)
Над головой было закопченное дощатое небо, очень высокое, если сравнить его с лагерным бараком: он мог встать с лежанки и не коснуться его головой! И была о н а. Рядом…
— Где я?
— На свободе.
Дощатое небо, стены сруба, черная печурка, бугристый, как проселок, пол, лежанка у стены — это был весь мир свободы.
— Василинка…
— Меня зовут Аня.
(Таня! Татьянка и Сашко… Нет! Нет! Их и мое никогда не сравнить!)
В печурке тлел огонек, бросал красные блики на стены, на ее лицо, потом в этом красном свете неожиданно появилось мужское лицо — с длинными седыми усами и с бородой…
— Василинка…
— Не бойся, это наш… Наш спаситель.
Это был второй живой человек, появившийся на опустошенной земле. Он потирал руки, согревая их, и сказал по-чешски, что во дворе тихо, но холодно, что фронт где-то остановился, и неизвестно, когда двинется дальше, потому что фашисты, по-видимому, хорошо укрепились. Потом спросил:
— Ну, будешь жить? — это уже было сказано на ломаном русском языке.
Почему — будешь жить? Он всегда хотел жить, но его об этом не спрашивали, а выносили приговор: капут!..
Текучий водянистый снег, синие водянистые перелески, белое солнце… «Ну, добей, что ли!..»
Он собрался с силами и крикнул:
— Буду!
Только крик у него получился хриплым, едва слышным.
А она спросила:
— Когда все это кончится?
— Скоро, — ответил ей бородатый. — Поправляйтесь. Вот хлеб, мясо, есть вода… Одного не делайте — не высовывайтесь отсюда и не разговаривайте громко.
Когда бородач вышел, снова отозвался страшный гигант: земля загудела, заскрежетало небо, и затем неустанно грохотало, гремело, стонал изболевшийся лес, изболевшийся мир, и было так: не ночь и не день… Только ее глаза не давали угаснуть жизни. Наконец бред отступил, и все стало обычным: дощатое небо сразу преобразилось в низенький потолок, изболевшийся мир стал влажным подземельем, а она — незнакомкой.
Они были вдвоем. В темном укрытии, которое оборудовал для них бородатый чех.
— Расскажи о себе, — попросила она.
— Моя жизнь обычная.
— Да мы еще и не жили.
(Если бы человек знал, что он ошибается! Отшатнулся бы сразу. Но тогда дорога была бы как нотная бумага: параллельные линии не пересекаются, не сходятся… А настоящая жизненная дорога — задача с тысячами неизвестных. Надо своевременно понять себя и начать искать — неутомимо, изо дня в день. Только в сказке бывает легко, а жизнь — это тяжелая борьба, нелегкий труд!..)
Она была рядом, и свет от печурки едва выхватывал из полутьмы ее лицо, хотя он не знал, день сейчас или ночь, — давно (еще после того взрыва) потерял он ощущение смены дня и ночи.
А она была рядом, она была очаровательна. Она напоминала ему другую, ту, оставшуюся в его сердце.
— Мы начинаем жизнь, — согласился он с нею.
— Тебя за что?
— Я даже сам не знаю, как это случилось. Помнишь, мы должны были собраться будто бы на именины, чтобы на случай осложнений можно было бы оправдаться?..
В печурке вспыхнула сухая веточка, осветила продолговатое женское лицо, большие серые глаза, обведенные черными впадинами.
— Извини… Аня.
— Ничего, ничего, говори дальше.
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)