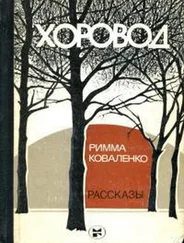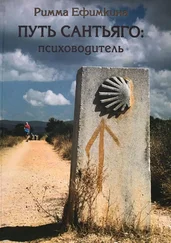— Она им написала?
— Не успела. И я не успел. Они внезапно умерли, оба в один день. Дело в том, Гена, что родители всегда умирают внезапно, даже те, которые долго болеют.
Рассказывая этому человеку о своей матери, читая письмо, Федор Прокопьевич вдруг вспомнил директора детского дома, который все лето занимался с ним, помог перепрыгнуть через второй и третий классы. А он сам помог ли кому далеко прыгнуть? И этого Гену образумит ли, научит ли ценить свою мать? Для того чтобы развернуть Гену, вывести его на жизненную прямую, мало одного разговора, надо ему доверить все, что у тебя есть, как поверил ему когда-то директор детского дома, доверил свою квартиру вместе с игрушками уехавших детей.
— У каждого человека, — сказал он Попику, — только с виду особенная, не похожая ни на чью жизнь. На самом же деле, в главных, опорных точках у всех одно и то же: родители или сиротство, любовь или отсутствие ее, желанная работа или нежеланная.
Попик слушал его внимательно, но в серых, застывших его глазах нельзя было прочесть, принимает он его слова или отвергает.
Выпеченный человечек наделал много шума. С легкой руки Полины Григорьевны его стали величать «скульптурой». Волков попытался уточнить жанр: «Это горельеф». Но «горельеф» оставили без внимания, не до тонкостей, когда пекари, изнывая от безделья, пускаются в подобные художества. Вот вам и ночная смена. Хотели аннулировать, облегчить жизнь рабочим, а они, оказывается, измучены этой легкостью. Пекарь, давший жизнь человечку, так и заявил:
— Замучился я на этой работе. Какой я пекарь? Что я пеку? Стою как пень и гляжу, чтобы нарезчики не сбились. Чуть сбились — зову ремонтника. Даже наладить эту дурацкую нарезку не доверяют.
Он стоял, молодой, розовый, словно припудренный светлым пушком на щеках и подбородке, пробившиеся русые усики делали его похожим на беспечного, довольного жизнью кота.
— Перестаньте паясничать, Дымов, — говорил ему секретарь партбюро Игорь Степанович Алексеев, — ведите себя серьезно. Вам известно слово «ГОСТ»? Или вы думаете, что форма батона, его вес, качество — это самодеятельность, что хочу, то и ворочу?
Дымов никого не боялся — ни Полуянова, ни Алексеева, чувствовалась школьная закалка противостоять учителям. Стоял посреди кабинета и всем своим видом нахально спрашивал: а что вы со мной можете сделать?
— Хоть бы осознал, смутился, извинился, — ворчала Полина Григорьевна, — стоит и издевается.
— Дымов, мы ждем от вас ответа, — голос Анны Антоновны прозвучал учительски строго. — Что вас толкнуло на этот шаг?
Дымов уже устал от них. Какого ответа они от него добиваются? Да просто так, взял и слепил, ни про какой «ГОСТ» не вспомнил. Сначала интересно было, что из этого получится, где этого «эмбриона» остановят, а смена кончилась, сразу о нем забыл.
Главный инженер сидел как туча, но еще ни слова не проронил. Наконец поднял лицо, скользнул пренебрежительным взглядом по пекарю и сказал:
— Иди. Уши завяли все эту галиматью слушать. И мы хороши: он же нас обратно загоняет на ветку.
— Куда? — Дымов даже шею вытянул в сторону Волкова. — Вы почему оскорбляете?
— Иди, иди, оскорбленный, иди, пока я тебе не помог.
Члены партбюро и все приглашенные замерли после этих слов. А пекарь, только что тут выламывавшийся, тот и вовсе ошалел от неожиданности, пошел к дверям спиной.
— Развернись, — подсказал ему Волков, — а то затылком дверь откроешь. Побереги затылочек.
Когда Дымов тихонько прикрыл за собой дверь, все уставились на Волкова. Что-то происходило на комбинате, человечек бог с ним, а вот с рабочими руководство так никогда не позволяло себе разговаривать.
— Александр Иванович, как это понимать? — стараясь тихим голосом смягчить вопрос, спросил Алексеев.
Волкова не смутил вопрос.
— Понимать надо так: и вы, и я — тоже рабочие люди, причем хорошо постарше этого Дымова, и нам негоже перед ним унижаться. По какому праву он тут перед нами куражился?
— Он молод, — Полина Григорьевна попыталась урезонить главного инженера. — Мы должны воспитывать его, а вы, Александр Иванович, стали с ним на одну доску. Грубостью еще никто ничего не добивался. Дымову надо спокойно объяснить…
— Ничего объяснять не надо! — взорвался Волков. — Объясняем, объясняем, а что наши объяснения дальше ушей не идут, ни в сердце, ни в голову не попадают, нас мало волнует. Дымов с детского сада всякими объяснениями сыт по завязку. Ему надо помочь, взбодрить его, разбудить, пусть поймет, что не младенца он вылепил, а сам младенец. Я ему и хотел помочь. Теперь повозмущается, побурлит от негодования и никуда не денется — задумается.
Читать дальше