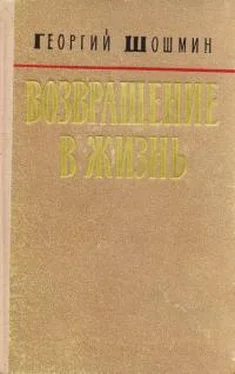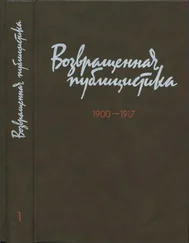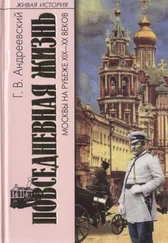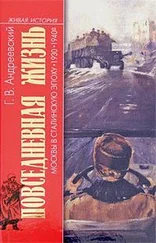ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Утром Вадиму Аносову позвонила домой Прасковья Степановна. Она сообщила о болезни Аси и передала ее просьбу — во что бы то ни стало прийти.
Вадим сейчас же отправился на Крестовский. Увидев его, Ася хотела приободриться, начала говорить о своей поездке в Москву, на всесоюзное совещание строителей:
— Ты уже, наверно, читал в газетах об этом совещании. Мне кажется, в нашем строительстве начинается совсем новое. Мы еще не знали такого. И многое, многое должно стать теперь иначе...
На тумбочке около кровати лежала командировка на строительство новой гидроэлектростанции на Ангаре, придавленная перевернутым стаканом. Ася грустно улыбнулась:
— Завтра надо ехать, а я — вот... Я маме говорю — пусть она все-таки собирает. Может быть, к утру станет лучше. Отпустит же наконец этот приступ...
Прасковья Степановна принесла хрустящее с мороза, негнущееся и ломкое белье. Комната сразу наполнилась чуть влажным запахом свежести. Отобрав Асины вещи, она принялась неохотно гладить их и укладывать в чемодан. Вадим видел, что, сдерживая слезы, она занимается сборами просто для успокоения дочери. А может статься, и сама она хочет убедить себя, что к завтрашнему дню Асе, возможно, станет лучше.
Ася устала от нескольких произнесенных фраз, задохнулась от боли. Потерявшие блеск глаза стали серыми. Синевато-черные тени под бровями и на впалых щеках проступали в солнечном свете очерченно резко.
Отдышавшись, но все еще не выходя из тяжелой задумчивости, она с усилием чуть повернула голову. Положила на руку Вадима свою холодную, влажную ладонь, словно требуя самого честного ответа. И спросила неожиданно:
— Ты веришь в Виктора?
— Верю, — твердо ответил Вадим.
Ася облегченно вздохнула, показала глазами:
— На пианино — его ноты, скрипка, ордена. Я обещала вернуть, когда он снова будет человеком... Поправлюсь — приду к нему. Надо было давно прийти... Не говори ему этого... ничего не говори... Отдай...
Все воскресное утро Виктор Дмитриевич вместе с Мещеряковым и Колей Петровым пробегал на лыжах...
Слепящее солнце над белыми, тихими полями. Льющиеся сверху, между вершинами высоких деревьев, упругие струи света в январском лесу — голубом от теней на снегу и шумном от перекликающихся голосов. Стеклянный, короткий звон сбитых палкой сосулек где-то совсем рядом, должно быть около сторожки.
Какое счастье, какая радость — выбегать на опушку, видеть молчаливые снежные поля, маленькие дома с тонкими дымками над трубами, слышать манящий в дорогу, затихающий стук раннего утреннего поезда, а потом — снова мчаться через лес, через лес, дышать полной грудью. Кусок неба между вершинами, увиденный на бегу, яркий желтоватый блик в искристо-прозрачном воздухе, пойманный прищуренным глазом, далекий и близкий свет солнца — все доставляло радость.
Виктор Дмитриевич жадно впитывал в себя эту радость. Он не видел ничего по отдельности. Но в то же время видел все. Не слышал отдельного глухого шороха в вершинах или протяжного зова друзей, не чувствовал порознь ветра или солнца, но чувствовал все. Сразу все. Всю жизнь — с лесом, ветром, солнцем, друзьями...
Могучее чувство! Его можно передать лишь в музыке. Это — бодрящая усталость всласть потрудившихся мышц. Сильный и здоровый поток, отдающийся взволнованным, ритмичным гулом в висках. Это — биение самой крови в жилах, сама жизнь!..
Возвратившись из лесу, Виктор Дмитриевич сейчас же сел за работу. Снова — и теперь еще сильнее — переживая утреннюю радость, захваченный светлым потоком рождавшейся в нем музыки, он не отрываясь просидел за работой до самого обеда.
После обеда неожиданно приехал Вадим — привез скрипку, ноты и ордена. Он даже не разделся, не присел. Уходя, сдержанно сказал:
— Несколько часов назад Асю отправили в больницу. — Он назвал больницу. — Очень плохо с сердцем...
Проводив друга, Виктор Дмитриевич открыл футляр скрипки, бережно стер оставшуюся с давних времен канифольную пыль на деке, под струнами. Боязливо положил ладонь на струны. И тотчас, как от ожога, вздрогнув, — отнял ее. Струны тоже вздрогнули. Прозвучали затаенно-глухими и далекими звуками,— такими далекими, что занялось сердце. И мысли, вслед за ними, прозвучали издалека-издалека, будоража память, поднимая забытый стыд...
Он потрогал ордена... Принимая вот этот орден Отечественной войны, он громко выкрикнул: «Служу Советскому Союзу!» А потом... Бесплодно прожитые годы. Бедность жизни. Бедность мыслей и чувств. Отречение от всех своих идеалов и мечтаний... Водка делает человека эгоистом: жизнь только для себя — бесцельная для ума и пустая для сердца жизнь... Ледяная пустыня бесприютных зимних ночей. Унижения, горечь и стыд, истощенное сердце. И он еще смел обижаться, что не верят в него люди, не верит Ася...
Читать дальше