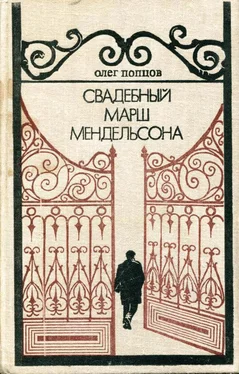— Ты ушел, а тяжесть обнаружилась разом. Она раздавила меня. Забудем. Ну что такое два года, когда впереди целая жизнь? Не было той вчерашней жизни. Моих капризов не было, моего сумасбродства. Все сначала. Ты вернулся. — Она теребит мою рубашку, мотает головой. — Я говорю не то, совсем не то. Ты никуда не уходил. Слышишь, никуда. Приехал с дачи. Снимай свой плащ, и пошли ужинать.
Сейчас она сделает шаг назад. Ей надо увидеть мое лицо, мои глаза увидеть. А мне не хочется открывать глаз. Я ни о чем не думаю, и мне неизвестно, что можно прочесть в моих глазах.
— Ты устал?
Она права. Я устал. Боль сжимает виски, давит на затылок. Она есть, эта боль, и пребудет со мной вечно. Я не стану говорить про нее. Незачем. Невозможно разменять боль на боль. Твоя боль всегда останется только твоей.
— Ты голоден?
Откуда, из какой жизни этот вопрос? Из жизни вчерашней, которую надлежит зачеркнуть, или жизни завтрашней? Все очень просто, сейчас вот сниму плащ, и можно сказать: «Дай мне поесть. Завтрашняя жизнь началась».
— Видишь ли… — ворошу волосы, затем обхватываю шею и так и стою, сутулясь, под тяжестью собственной руки. Каких слов Ада ждет от меня? Те, что надлежало сказать, уже сказать невозможно.
В моем кармане лежит ключ. Ключ от чужой квартиры. Я вернулся сюда случайно. Виноват шофер. А может быть, виноват я. Я виноват, я виноват… Я! Какое несложное построение мыслей. Однозначные фразы. Но как их произнести, как заставить себя выговорить их?
— Видишь ли, — повторяю я. Мысли так и остаются мыслями. Я знаю наверное, что не смогу произнести сложившихся в уме фраз. Многое, слишком многое надо объяснять.
Мы топтались на месте, моя нерешительность истолкована на свой лад. Она протягивает руки, делает два быстрых шага ко мне. Она полна желания прийти на помощь. Лицо приходит в движение. Круглятся, растягиваются, изгибаются губы.
— Вижу, вижу, — торопится она. — Твое молчание красноречивее самых умных, самых ласковых слов. Я знала, ты поймешь меня. Я бы не могла, я бы… — Она снова заплакала, чуть подвывая, суматошно задвигались руки. — Господи, да что же это? Дай мне платок. — И, не спрашивая меня, стала шарить по моим карманам. Ключ серебристо сверкнул на лету и беззвучно упал на ковер. Я не успел наклониться. Она опередила меня. — Ключ, — сказала она одними губами. Слезы мешали, но она упрямо разглядывала ключ.
Я протянул руку, она сделала вид, что не видит моей руки.
— Чей это ключ?
Какой смысл было врать, придумывать сиюминутные объяснения! Заученно, как телетайпная лента, побежали мысли: «Я здесь оказался случайно. Я ехал в другое место. Это ключ от квартиры сестры Лиды. Как он оказался у меня? Я не знаю. Возвращаться сюда было выше моих сил. Ехать к маме равнозначно возвращению сюда. Мне надо сосредоточиться и побыть одному». Обыкновенные слова. Какой механизм в моем мозгу бракует их, делает их непригодными? Мне незачем было врать, но я соврал. Соврал по инерции.
— Так, — сказал я. Кто знает, чем кончится наш разговор. — Не могу же я ночевать на улице. Парень из нашего института. «Бери, — говорит. — Если что, приезжай».
— Парень!
Магическое действие крошечного кусочка металла. Она все еще разглядывает его. Мое присутствие мешает. Ей хочется понюхать ключ.
— Я его знаю?
— Не-ет. Он из соседнего отдела.
— Если он отдал тебе ключ от своей квартиры, значит, вы близкие друзья. Он готов терпеть твое общество.
— Видишь ли… — Ложь уводила меня все дальше. Теперь придется выдумывать этого парня, историю нашего знакомства. — Мы вместе учились, — бормочу я. — Он перевелся к нам из другого института.
И само бормотание — уже признак неуверенности. «Что же это?» — в паническом мельтешении успеваю подумать я. Неужто несуразность способна перечеркнуть мои устремления, раздавить мою волю? Каков я есть, если полуденное испытание превыше сил моих? Врать-то, врать зачем? Сам того не ведая, я отступаю к обрыву. И ключ уже не ключ, фигурный кусочек металла, а топор, взмахнув которым возможно разрубить гордиев узел. Как же далек, как неслышен голос, что взывает к разумности и честности, к чести моей! Я вязну во лжи, я стараюсь посмотреть в глаза человеку. Мне непосильно видеть слезы ее.
Ничтожество, размазня! Увы, мои самооскорбления не ожесточат меня. Я не скажу правды. Не могу. Я не буду продираться сквозь собственное бормотание, я уступлю ему, как уступают течению, думая, что уступка мимолетна, — вот отдохну, наберусь сил и тогда воспротивлюсь. Нет.
Читать дальше