Высеченные подковами, хрустят настывшие куски льда. Они отлетают далеко из-под ног, оставляя на снегу длинный след.
Зашло за Дальвой солнце, оставив на небе густые красные полосы. Полосы синеют, гаснут на глазах; у леса и на выгоне встает туман, густой, синий. С Сушковского лога, из-за реки, не стало видно деревни. Над выгоном в небе рассыпались вороны. Черные, мелкие, они летели из-под Курьяновщины тихо, будто чем-то подавились.
Скрипят сани, и далеко слышен их скрип. Темнеет. Впереди видна белая дорога.
К ночи сжимал землю мороз, сковывал на всю зиму, будто на весь век.
............................................................................................
Еще Янук чувствовал, как падал с воза: стукнулся головой обо что- то твердое.
16
Ночью Таню так не трясло. Ночью, наверно, она спала. Помнит только, как к возу подбегали немцы, выскочившие из леса, как забрали и повели мужиков. Около телеги тогда осталась одна Наста, стояла, положив Тане руку на лоб.
Больная нога стала тяжелая, не сдвинешь, словно чем-то прижали сверху. Жгло как раз в том месте, где нога была перетянута вожжами. Жар охватывал Таню всю.
— Во-оды...
Потом Таню снова бросало в озноб.
Все становилось серым, словно темнело; только далеко в небе светило желтое солнце — оно дрожало, растягивалось, подскакивало высоко вверх. Казалось, что в хате у стола горит смоляной огарок... От печи к светильнику подошла мать с длинной лучиной в руке. Вынула огарок и вставила вместо него длинную лучину. Загораясь от огарка, новая лучина горела тихо и тускло. Она еще не высохла, только распарилась за печкой, куда мать положила ее утром сушить, нащепав из сырых суковатых брусков.
Потом мать вернулась к печке, где на постели лежала Таня, и положила ей руку на лоб.
— Горит, бедная... Простыла.
Мать стала какая-то совсем другая, потемнела, нос у нее вытянулся и покраснели щеки, как у Насты. И рука, широкая и холодная, казалась чужой. У матери всегда была теплая рука, даже когда она без рукавиц поила зимой у колодца корову. Мать не боялась холода — только на морозе руки у нее становились красными, как бураки.
Она пошла в другую хату и принесла кожух, новый, желтый, длинный, и укрыла им Таню с головой. Стянув с печи старую суконную жакетку, набросила на ноги.
— Горит огнем... Жар у девчины...
И голос у матери чужой, словно у Насты.
Матери долго потом не было слышно. Кружится голова, как от чада, и стучит что-то в сенях. «Лестница»,— догадывается Таня. Мать приставляет лестницу к стене — полезет на чердак за клюквой. Клюквы на чердаке — полное корыто, с верхом: ее носили всю осень с Корчеваток. В корыте она дозрела: стала красной и издали пахнет мхом. Таня набирала ее в мисочку каждый раз, когда лазила на чердак развешивать на морозе мокрое белье.
Мать достанет мерзлой клюквы и положит по ягодке Тане в уши. Ягоды мерзлые, как косточки, и не сразу оттаивают в ушах.
Нечем дышать — это из печи из-за заслонки пахнет горелым хлебом, густо, можно задохнуться. Мать даже вьюшку открыла, а все равно пахнет горелым хлебом и помелом. Помело где-то тлеет; мать, наверно, оставила сосновую ветку в печи, когда подметала под, и забыла.
Мать принесет с чердака клюкву и даст Тане. Сама будет класть Тане в рот по ягодке — Таня руки не может поднять, ослабла.
От мерзлых ягод заломит зубы.
Снова стучит где-то в сенях и на дворе возле хлева. Мать, спустившись с чердака, долго не идет в хату. Таня начинает думать, что мать и не лазила на чердак,— это Юзюк стучит на дворе под поветью: прибежал запрячь кобылу.
Юзюк уже где-то за Двиносой. Ушел из Корчеваток один, без Тани. Как она могла пойти с Юзюком? Бросить в болоте мать одну? Мало ли что в болоте люди. Она не пошла бы с Юзюком, даже если бы мать и пустила ее. Как это пойти вдвоем с Юзюком? Чтобы все видели?.. И так на них, наверно, смотрели, когда Юзюк привез их в Корчеватки. Был бы Юзюк им родня, тогда, может, Таня и пошла бы. Но ведь ок им никакая не родня.
Если бы пришлось идти на Палик, так им нечего было бы и взять с собой. Другие и сухарей насушили, и толокна намололи, а они ничего не делали, никуда не собирались...
Юзюк где-то уже далеко, на Палике, вместе с партизанами. «Автомат в руки — и пойду. Возьмут. Сидеть в болоте с бабами я не буду»,— говорил он ей все время: и во дворе, когда запрягал кобылу, и в Корчеватках...
И чего это он за ней прибежал? Разве в деревне не было с кем пойти?..
Она начинает вспоминать, какой он, Юзюк,— совсем забыла. Помнит только, что он босой и широкий в плечах. Потом припоминает, что Юзюк — это же вылитый Алеша: лобастый, белый, даже волосы у него белые. И нос такой, как у Алеши,— широкий и загнутый вниз; и глазами часто моргает, они у него такие же серые, и в землю все время глядит— под ноги. Вспоминает, как он смотрел на нее возле повети и шептал: «Таня...» Она и сама не знает, куда делась бы тогда от стыда, если б не надо было удирать из деревни.
Читать дальше
![Иван Пташников Тартак [журнальный вариант] обложка книги](/books/398996/ivan-ptashnikov-tartak-zhurnalnyj-variant-cover.webp)


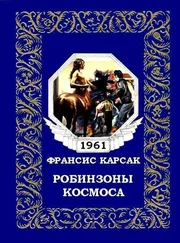

![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)

![Валерий Попов - Через Лету обратно (Запоздалый шестидесятник) [журнальный вариант]](/books/414357/valerij-popov-cherez-letu-obratno-zapozdalyj-shesti-thumb.webp)
