Стучит несмазанная машинка, трудно крутить ручку. Давно уже кончилось в масленке масло. А теперь где его достанешь? Партизаны обещали и не принесли. А где они возьмут, проси не проси.
Стучит машинка и не тянет: рубец толстый. Хоть бы иголку не сломать — последняя.
Наста перестает крутить ручку и, положив ладонь сверху колеса, крутит его ладонью.
Иголка лезет в рубец, не гнется. Под пальцами встает серый холст — попался партизанам под руку чей-то неотбеленный или, может, кто сам принес, не пожалел.
Рвется верхняя нитка — рвет иголка, не протягивает через толстый рубец, хоть ты бросай и перешивай потом руками.
А сколько еще надо шить.
Самое трудное — при таком свете вдеть в ушко нитку. Иголка становится тонкая, и не видно ушка, едва поймаешь его.
Дрожит рука, трясется, натруженная,— даже ножницы не сожмешь, когда кроишь.
Машинка стучит без передышки, когда гонишь шов по спине халата сверху вниз; дрожит стол, когда одним махом обрубаешь подол вразгонку, сбрасывая остатки скатерти на пол. Нагнешься, чтобы поднять их из-под ног, и чувствуешь, как кружится голова.
Когда перестает стрекотать машинка, слышно, как мечутся на кровати за печкой дети и стучит в хлеву корова. Потягивается на печке кошка — шуршит лучиной. Трубит в трубе ветер, гоняет вьюшку, она звенит, как пустая сковородка на шестке, и тогда от окна еще холоднее. Хоть возьми да пересядь на середину хаты, но тогда будет далеко лампа и не разглядишь рубец. Если бы пойти в сени, найти проволоку и опустить ниже лампу, но где ты ее впотьмах найдешь? Валяется где-то возле двери дужка от ведра, но она кривая, выпрямлять надо — наделаешь шуму и разбудишь детей.
Машинка рвет из-под пальцев шитье, не удержать; стучит в окна ветер; пошел снег, густой, к оттепели; на подоконнике намело сугроб— замуровало все окно.
Опять стучит у колодца бадья; забыла, не закрепила ее, когда была во дворе; за окном завывает ветер — будто это волки под Корчеватками.
На улице за огородом снова на снегу появились сани. За ними идут кучкой люди.
Наста подумала, что дорогу совсем занесло, не проехать; что до утра сугробы наметет на улице вровень с крышами, что партизаны все равно валят и валят из лесу, спешат куда-то: гарнизон, наверно, едут громить в Западную, раз все в белых халатах.
Бегут по сугробам за санями, да на таком морозе, а что у них за обувь? И что под халатами? Полушубки. Хорошо, если новые... В такую погоду ни полушубки, ни валенки не спасут. Волки и те выбираются из лесу ближе к жилью. И волков пробирает насквозь, а это же люди, некоторые совсем еще дети, на печи бы им сидеть.
Положив на сундук халат, широкий, твердый, Наста почувствовала, что озябла, никак не может согреться. Подошла к печи, накрыла детей — натянула на них одеяла и снова вернулась к столу. Набросила на плечи платок; достала из сундука новую катушку ниток, надела ее на шпенек машинки. Подтянула к себе лежавший сверху скроенный рукав.
Когда снова застучала машинка, Насте показалось, что брякнула в сенях щеколда. Она подумала было, что это ветер дует прямо в дверь, но сильно забарабанили в окно.
Она подбежала к порогу и, толкнув в сени дверь, спросила, как всегда:
— Кто там?
— Открой, хозяйка... Свои. Сухов...
За дверью разговаривали мужики, топали ногами — казалось, их полон двор.
Наста отодвинула засов — ветер вырвал из рук дверь, и она стукнулась о стену. В сени повалил снег, его нанесло до самого порога.
В хату входили партизаны. Наста стояла у порога, от холода не слыша, что они говорят. Потом вернулась к столу, где стояла машинка и лежали сшитые халаты.
Партизаны шли и шли — в белых халатах, в белых от снега валенках. Входили, цепляясь за косяк прикладами, ударяясь головами о притолоку— дверь в хате была низкая. На пороге обивали снег с валенок и сапог, чтобы не нанести в хату, счищали его веником, передавая веник друг другу. Стаскивали с головы белые капюшоны и обминали их на плечах; расстегивали заиндевевшие белые воротники, терли рукавицами щеки и носы; сняв рукавицы и положив их на лавки, терли щеки ладонями — обморозили. Подходили к столу и сундуку, щупали руками скатерти; сдвигали в кучу халаты и на их место клали побелевшие автоматы и винтовки — в тепле на железе сразу выступал иней.
Партизаны были везде — и возле кровати, и у стола, и возле шкафа. В хате стало уже тесно, не повернуться, а они все шли и шли, задевая прикладами о косяк двери.
Грелись у печи, спрашивали, давно ли проехали подводы, пили около печки одной кружкой воду и без конца терли щеки. Дверь долго была раскрытой, и в хату под стол валил белый пар.
Читать дальше
![Иван Пташников Тартак [журнальный вариант] обложка книги](/books/398996/ivan-ptashnikov-tartak-zhurnalnyj-variant-cover.webp)


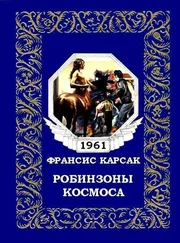

![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)

![Валерий Попов - Через Лету обратно (Запоздалый шестидесятник) [журнальный вариант]](/books/414357/valerij-popov-cherez-letu-obratno-zapozdalyj-shesti-thumb.webp)
