Корова стучит не переставая, даже дети слышат спросонья — ворочаются у печки на кровати. Надо сходить в хлев посмотреть: корова стельная.
Корова отелится только в конце месяца, может, даже после сретения. Но Наста встает из-за стола, отодвигает швейную машинку, чтобы, вылезая, не зацепиться, и идет к порогу. Снимает с гвоздя на стене кожух, всовывает ноги в теплые бурки, взяв их с припечка, вытаскивает из-за печки лучину и берет из-под лавки у порога порожнее ведро. Запалив в печурке от угольев лучину, прячет ее в ведро и, прикрыв ведро от ветра полой кожуха, идет во двор. В сенях у порога намело снегу — скрипит под ногами. Липнут к белой от мороза щеколде пальцы и горят, будто обожженные. Ветер, густой, острый, у крыльца просто сваливает с ног, нечем дышать; вспыхнула и сразу погасла во дворе лучина в ведре.
Наста вернулась в хату за спичками — долго искала в печурке под рукавицами коробок.
На дворе снегу по колено — до самого хлева. Ветер гнал его с загуменья и с огородов через заборы во двор. Прояснилось. От свежего снега стало светло, и было видно, как от леса одна за другой ехали подводы, черные на снегу, как жуки. За подводами по сугробам вдоль самого плетня бежали люди по одному — по два: Скрипел под санями снег, и скулил у колодца ветер. Подвод было много, и на каждой сидели люди в белых халатах — полные сани. Наста догадалась, что это партизаны.
Партизаны куда-то спешат, раз не остановились у ворот. У нее одной в деревне так поздно горел в хате свет. Наверное, партизаны замерзли на таком ветру: едут ведь от самой Двиносы, не заходя ни к кому в хату. А до Двиносы семь верст, хорошо еще, что лесом, за- тишнее.
В хлеву она не зажигала лучины, боялась заронить огонь в солому и жалела спичек. Раскрыла настежь дверь — в хлеву было светло от снега, даже в углу на соломе, где стояла привязанная корова. Наста погладила ее по спине, нашла на ощупь цепь, цепь закрутилась за рога. Трушонка лежала у коровы под ногами, шуршала, когда к ней приближалась Наста. Наста подумала, что корова не голодная, если не ест трушонки, и пошла за перегородку, за которой шевелились куры. За перегородкой стоял у яслей Буланчик. Обындевел, стонал и не ел сено — оно лежало ворохом в яслях вровень с краями. Буланчика вчера брали с собой в обоз кутузовцы.
Наста забрала в охапку сено из яслей и бросила корове. Будет есть и после коня, когда под утро ветер выдует хлев. Трушонку она уже есть не хочет.
Потом она набрала со скирды сена, сложенного у стены — немного, небольшую охапку,— и положила Буланчику в ясли. Буланчик долго стоял, опустив голову, потом стал хрупать. И не пил он что-то вечером, помочил только ноздри. Надо было ему вынести теплой воды из хаты. Загнали его. Никто и не скажет, куда на нем ездили по такому снегу, а у коня языка нет. Она погладила Буланчика по шее — от инея стало холодно руке,— потом взяла с кадки мешок, в котором носили запаривать корове мякину, и накрыла ему спину.
Буланчик переступил с ноги на ногу и заржал — из ноздрей у него шел пар. Закудахтали куры, звякнула цепью корова — рвала из стены крюк. Сена она не тронула.
Наста к ней больше не подошла.
Когда она возвращалась из хлева, по улице все еще ехали партизаны. Она постояла у крыльца, подождала, подняв воротник от ветра и спрятав в рукава кожуха голые руки. Подумала: партизаны едут в халатах. А что халаты?.. От них тепла нет.
Она вернулась в хату, закрыв на засов дверь. Повесила за печку кожух; стянула с ног бурки, оставшись в шерстяных чулках; подошла к столу, взяла скатерть и завесила с улицы окно — не так будет дуть. Долго стояла у скамьи — не хотела садиться за стол. Над столом тускло горела лампа; сквозь стекло был виден узенький желтый фитиль и керосин на дне — хватит ли до утра? В хате всюду было бело, как от снега: на столе, на лавках, на сундуке и на кровати у окна лежали скатерти. Твердые еще, из нового холста, в восьминитяных узорах, они лежали ворохом, будто их кто нарочно раскидал. На столе и на лавке около сундука они были в кусках — раскроены. На сундуке один на другом были сложены уже готовые халаты, широкие, с рукавами и с огромными капюшонами.
На столе блестит швейная машинка: светленькое, в дырках колесо, желтая деревянная ручка, отполированная пальцами, задвижка над челноком.
Стало холодно ногам в шерстяных чулках: Наста стояла на голом полу. Садиться за шитье не хотелось: слипаются веки, болят руки. Болят концы пальцев: обрубливая, подгибаешь холст, прижимаешь, чтобы не выскакивали из-под лапки у машинки рубцы. Всю неделю не вылезала, из-за машинки — детей только кормила и скотину.
Читать дальше
![Иван Пташников Тартак [журнальный вариант] обложка книги](/books/398996/ivan-ptashnikov-tartak-zhurnalnyj-variant-cover.webp)


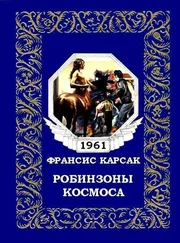

![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)

![Валерий Попов - Через Лету обратно (Запоздалый шестидесятник) [журнальный вариант]](/books/414357/valerij-popov-cherez-letu-obratno-zapozdalyj-shesti-thumb.webp)
