В школу они переехали сразу после пожара всей семьей: он, Янук, сын Пилип с женой и маленький Колечка; переехали в чем были.
Школа была за гатью, далеко от Дальвы, на горе возле кладбища; она была деревянная — бревна, широкие, добротно тесанные, как плашки, становились уже серыми; покрытая красной жестью крыша была видна издалека — блестела на солнце; окна большие, во всю стену; на высоком фундаменте из серого обточенного гладкого камня, школа стояла у самой дороги, широкой, укатанной, поросшей вечно серым от пыли подорожником и репейником. Ее обнесли мелким и ровным частоколом, заняв большой участок на самой горе. В углу двора, где росла полынь, стоял сарай, накрытый гонтом,— в него складывали на зиму дрова. За сараем в полыни были ямы, где сушковцы хранили картошку,— там желтел песок, перекопанный лопатами и истертый ногами в порошок.
Невдалеке от дороги против крыльца стоял колодец с навесом, сделанный из новых выструганных сосновых досок. Досками был обит и сруб: желтел на солнце.
Дети в школу не ходили, и двор порос густой белой кашкой, хоть коси ее; цвели у самого крыльца белые ромашки, широкие, с ладонь; за колодцем у частокола на меже набух темно-желтыми, как мед, почками высокий молодой девясил.
Во дворе было пусто и жарко; пусто было и на гати и в Курьянов- щине. Над Сушковом висело маленькое солнце, двигалось к полудню. Хотелось в Дальву, домой. Пойти сесть на колоду у забора и смотреть на то место, где до пожара стояла хата. Хата была с пристройкой, а места занимала совсем мало — один черный клочок. На таком клочке, казалось, теперь не поставишь большую хату. Еще хотелось взять в школе лопату и копать пожарище — пересыпать с места на место песок н пепел со стеклом в том углу, где стоял сундук.
В Дальве были видны белые отесанные бревна — лежали у кого-то на огороде в сожженном конце деревни: их навозили сразу после пожара.
Янук пошел бы в деревню, если бы не заметил, как в лощине возле Сушкова поднялась пыль. Когда Янук снова повернулся и посмотрел на дорогу, немцы уже шли логом. Передние ехали на велосипедах; задние шли пешком.
Янук долго стоял во дворе, потом подошел к воротам и оперся грудью на частокол. Немцы на'него не смотрели — ни один не повернул головы.
Янук видел немцев впервые: в Дальве немцы еще ни разу не были, хотя и говорили, что они уже заняли Красное. Ему казалось, что стало еще тише. Он стоял и смотрел, как немцы мнут и мнут ногами траву на стежке и курят на ходу. Курят все до одного, даже те, что едут на велосипедах. Достают папиросы из маленьких белых блестящих пачек, бросают пустые пачки под ноги, прикуривают, дымят, будто пар идет у них изо рта на морозе; кажется, глотают и дым и пыль из-под ног, потом плюют на песок и швыряют далеко от себя спички — прямо во двор. Дым от папирос был густой и мягкий.
Немцы все были в желтых ремнях: и подпоясаны широкими желтыми ремнями, и плечи у них перетянуты, как у коней, желтыми шлеями, и винтовки короткие и желтые. Только сами серые от пыли и все мелкие и молодые, моложе деревенских мужиков.
Янук вышел на стежку против ворот. Немцы начали его обходить. Он стучал себе пальцем в грудь и протягивал руку:
— Т-твою мать...
Немцы обходили его, озираясь и скаля зубы.
— Твою м-мать...— Он снова сильно замычал, казалось, сам себя услышал, и все показывал пальцем на папиросы.
Немцы стали еще больше скалиться, как собаки, и хлопали его руками по плечу.
— Т-твою мать...— Янук пыхал и пыхал губами.
К воротам подъехали два немца. Первый, молоденький и черненький, весь в блестящих пуговицах на груди, соскочил с велосипеда, поставив его у частокола,— Янук подумал, что немец зачем-то зайдет в школу. Другой немец, такой же молодой, в галифе и блестящих сапогах — пуговиц на груди у него было меньше,— только поставил ногу на землю: оперся, держась руками за руль, как за рога.
Первый немец подбежал к Януку и показал рукой на голову — у немца двигались скулы, видно он заговорил. Затем снова показал на голову.
Янук подумал, что немец хочет, чтобы он снял шлем,— на голове у него был шлем с поднятыми и заколотыми сбоку на пуговицы ушами, с торчащим на макушке «пальцем» и с твердым козырьком,— Пилип принес его в прошлом году с финской войны.
Янук уже поднял руки, чтобы снять шлем — немцы не любят, когда перед ними стоишь в шапке,— как вдруг почувствовал, что шлем с него сдернули, прихватив волосы. Смяв в кулаке шлем, немец понес его к воротам, положил на столб у калитки, выхватил откуда-то — Янук не заметил откуда — белый широкий кинжал и рубанул им. «Палец» отскочил далеко в траву, как куриная голова с колоды.
Читать дальше
![Иван Пташников Тартак [журнальный вариант] обложка книги](/books/398996/ivan-ptashnikov-tartak-zhurnalnyj-variant-cover.webp)


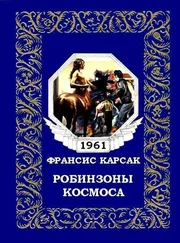

![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)

![Валерий Попов - Через Лету обратно (Запоздалый шестидесятник) [журнальный вариант]](/books/414357/valerij-popov-cherez-letu-obratno-zapozdalyj-shesti-thumb.webp)
