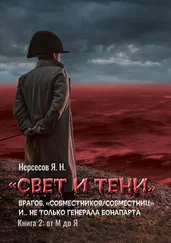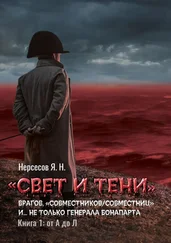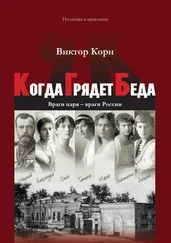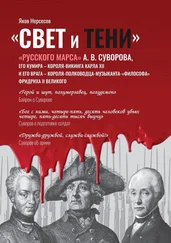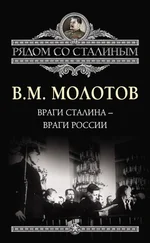– Но они из тех, – возражала Анна Алексеевна, – которые хотят из всего мира сделать один общий Николаевск…
– Ах, оставь, мама! Ничего они не хотят сделать! Танцуют, весёлые ребята – больше ничего.
Она уходила из дома, не говоря, куда идёт, возвращалась поздно и дерзко отвечала матери, что уже кончает гимназию, уже взрослая, а потому сама знает, что делать. В спор вступала проснувшаяся Ольга, но и ей Надя отвечала грубо и дерзко. «И в кого она такая?» – тревожно думала Анна Алексеевна. Как-то незаметно, за разными заботами, проглядела Анна Алексеевна, что превратилась Надя, ещё недавно девочка с косичками, в рослую, полную девушку, бойкую, живую, со смелыми, красивыми глазами, с чуть вздёрнутым носиком, немного резкими движениями, модернизированную, шумную, с категорическими суждениями, уверенную в себе, спортсменку, любительницу танцев, кино и флирта.
Один из ее поклонников, Дружинин, назвал её однажды «пикантной» – и девушке это страшно понравилось, а Анну Алексеевну больно задело. «Раньше таких вещей девчонкам не говорили» – печально думала она. – «Проглядела, проглядела, старая дура! Фокстроты, кино, советские эти мальчишки – не свели бы они её с ума».
Анна Алексеевна находила у Нади советские книжки и ругалась с ней из-за них.
– Грубо всё это, не литература, уж очень обнажено всё, ничего святого, – говорила Анна Алексеевна.
– Ну и что ж! – резала Надя и встряхивала кудрями. – Зато правда, сама жизнь. Не прикажешь ли читать ваши эмигрантские бредни?
– Да ты что, совсем советской стала? – ужасалась Анна Алексеевна. – Ты понимаешь, что говоришь?
– Понимаю! Советская я, не советская, но всё новое мне нравится. Жизнь не может застыть в старых формах, жизнь идёт вперёд. Я не могу вечно думать о том, что было раньше. Так и жизнь пройдёт. Ты всё молишься, панихиды служишь – я тебя понимаю, но не могу же и я отдать этому всё своё время…
– Побойся Бога, Надя, ведь это панихиды по твоим отце, брате, сестре… что ты говоришь?
– Мамочка… ты не думай… я вовсе не хочу тебя обидеть. Но не могу я только о покойниках думать…
– Не чужие же это покойники… это куски нашей жизни, нашей души, нашего тела… Как ты не понимаешь…
Анна Алексеевна чувствовала себя не в силах объяснить дочери то, что хотела выразить, и заливалась слезами. Надя бросалась к ней, обнимала её, целовала. А потом спокойно, как ни в чём не бывало, уходила куда-то, не сказав, куда, и возвращалась поздно. Постепенно крепкая и высокая стена вырастала между матерью и дочерью, а потом и между сестрами.
Ольга была другая. Тоже с крепким характером, тоже не всегда откровенная с матерью, но внимательная к ней, всегда помнящая, что перенесла мать, всегда чтущая память так страшно погибших отца, сестры, брата. Мать часто смотрела на неё, когда она что-нибудь читала или думала, сидя неподвижно, – и вспоминала такой же нежный, тонкий профиль старшей дочери. Они не были очень похожи, но именно профиль был один и тот же и иногда Анне Алексеевне хотелось тихо, тихо позвать:
– Тамара…
И спохватывалась, вытирала потихоньку глаза и говорила:
– Что ты читаешь, Оля?
– Алданова – «Девятое термидора». Замечательно, мамочка! Ты читала? Какое сходство с русской революцией – просто удивительно! Я, знаешь, иногда думаю, что, видимо, всё в мире повторяется. Вот и революции тоже: террор, зверства, расстрелы, даже очереди, весь быт, вся жизнь.
– Жаль только, – печально говорила Анна Алексеевна, – что в нашу эпоху повторилась именно революция. Не могло что-нибудь другое – например. Возрождение, что ли. Почему мы такие неудачники? Почему именно мы должны были так страдать?
– Конечно, то, что случилось с нашей семьёй, – ужасно. Но время, в которое мы живём, очень интересно. Неужели ты не согласна, мамочка? Такие величайшие сдвиги, переоценка ценностей, а главное – борьба. Борьба двух миров, борьба политических систем.
– Борьба, борьба! – немного раздражённо бросала Анна Алексеевна. – Из-за этой борьбы мы потеряли Россию, семью, всё, что имели. Что тут такого интересного – не понимаю.
– Потеряли Россию? – восклицала Ольга. – Но зато теперь идёт борьба за неё, героическая борьба горсточки эмиграции с большевизмом. Ведь это героика, эпос, который воспевается уже сейчас многими поэтами и будет воспеваться века…
– Где она, эта борьба? Что-то не вижу, – скептически сжимала губы Анна Алексеевна.
– Как? А разве одно то, что эмиграция не сдалась, не осталась в СССР, ушла за границу, на голодную, нищенскую, бесправную жизнь – не одна из форм этой борьбы? Разве та антисоветская работа, которую эмиграция ведёт, не героическая борьба? Разве всё то, что пишется об СССР, не опаснее для него, чем пушки и танки? Что ты, мамочка! Если иностранцы так медленно идут на сближение с СССР, то разве это не результат работы эмиграции? Эта работа незаметна, может быть не очень эффектна, но она ведётся многими годами и даёт свои плоды. А террор? Разве процесс Конради не сыграл огромной роли, раскрыв, что такое СССР, и удержав тогда многие страны от признания Москвы?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
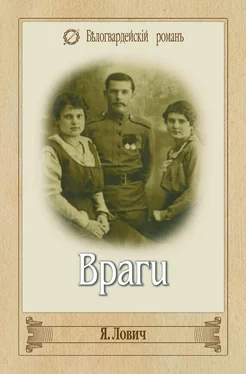

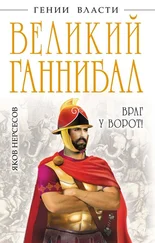

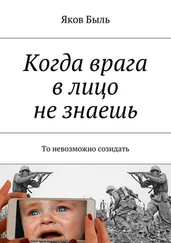
![Яков Лович - Что ждет Россию [Том II]](/books/424294/yakov-lovich-chto-zhdet-rossiyu-tom-ii-thumb.webp)
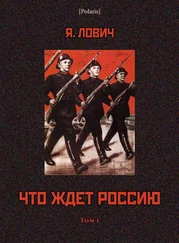
![Яков Лович - Дама со стилетом [Роман]](/books/427313/yakov-lovich-dama-so-stiletom-roman-thumb.webp)