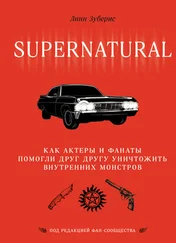— Ну, всего вам доброго.
Вместе с венгром поехали от костра к костру. В низинах, на гребнях пологих гор стояли или двигались куда-то обозы. Подводы тесно заполнили улицы и дворы, всюду, несмотря на поздний час, толчея, галдеж, конское ржанье, перебрех собак. Поодаль, над берегом пруда, пиликала гармонь, и в тесном кругу плясали с присвистом.
Богоявленцы слезли с коней, разминая чугунные ноги, у одного костра задержались, достали кисеты.
— На Саратов надо отступать, к своим поближе, — кто-то рокотал. — Помню, в Восточной Пруссии…
— Ну, степь тоже не сахар, — перебил его курносенький парень. — То-то приволье атаманцам.
— Домой надо, — донесся из-под телеги бабий голос. — Третью неделю мыкаемся по буеракам. Ни поесть, ни поспать…
— Спи, кто тебе мешает?
— Вам, здешним, легко!
Кто-то медленно брел от воза к возу, о чем-то спрашивал. Наконец вышел на свет — борода клочьями, глаза навыкате, с красниной.
— Эй, соседушка, Мокей Кузьмич, ты чего? — спросили его.
— Понимаешь, ползаплота унесли. Кто? Ясно, пришлые, на обогрев. Чуть стемнело, его и след простыл… — Мокей устало подсел к огню, подпер голову кулаком. — Беда за бедой, что ж это такое, а? Только-только в дом, извени, к семье, и вот… Сами ж большаки говорили недавно: штык в землю, дуй до Меланьи своей. А теперь? Закрутилось — черт не распутает!
— Кому не по силам, зато нам вполне! — вставил курносенький.
— Больно ты прыткий, молокосос. Посидел бы в окопах с мое — не то б запел.
— Был, около года.
— Год — не три, Санька, — отмахнулся Мокей и добавил упавшим голосом, ни к кому не обращаясь: — По весне вернулся с германской, хата на боку. Подправил кой-как, а тут новое наказанье. Без городьбы остался…
— Думай о другом, — примирительно заметил Санька. — Завтра, послезавтра, чуть зорька, в дорогу.
Мокей вскинулся, точно его искрой поприжгло.
— Куда идти? Куда-а-а? Горы, вот они, со всех четырех. Сиди, никакая собака не укусит!
— Чего ж ты с нами собрался? Топай до бабы, не колготись.
— Извени, подвинься. Вы уйдете — казара слопает, не спросив имени. Ей все равно: ты заваривал кашу ай нет. На белорецких вкруговую колья заготовлены…
— Да-а-а, влип, Мокей Кузьмич! — с издевкой молвил курносенький.
— Охаверник ты, Санька. Извени. Вроде братца моего среднего.
Санька отвалился назад, гулко захохотал, вздергивая ногами:
— Ого-го-го! Наш Мокеюшка никогда не скажет: прости, или еще как-то. Непременно по-господски: извени!
— Извени-и-и, самых чистых рабочих кровей. От прадеда — в печниках! — Мокей горделиво расправил бороду, покивал Саньке. — Эй, зубоскал, чем рогозиться, сбегай-ка за досками, хотя бы ко мне. Доламывай заплот, бог с ним… Веселое житье!
С восточной дороги вынесся всадник, вихрем пролетел мимо, в сторону заводских прудов. Огнисто искрила шелковая рубашка, раздуваемая ветром.
— С утра как на крыльях. И когда спит? — пробормотал Мокей. — Вот, Санька, учись: почти твоих лет, а умом да смекалкой всех генералов заткнул за пояс!
— Ой, туго ему, — Санька с опаской оглядел волнистую цепь гор. — Что там с семьями по станицам, знаешь? Да и от Магнитной — напуск за напуском. Когда еще подкрепление подойдет… Зевнешь — передавят поодиночке.
— Верхом-то не Иван ли Каширин? — догадался усач-кооператор и встал, быстро затоптал окурок.
Не доехав до плотины, посреди которой темнела пушка-трехдюймовка дулом на восток, богоявленцы вслед за венгром свернули к двухэтажному купеческому особняку, приметному издали.
— Штаб, — сказал Иштван.
У дверей, сгорбясь, дремал часовой в казачьем чекмене. Но едва усач с Игнатом взошли на крыльцо, часовой проворно выставил штык, и тут оказалось, что у него есть глаза, весьма остренькие, есть голос, только вот перегаром несло крепко.
— А ну, посторонись. Посторонись, говорю!
— Нам бы до главкома…
— Занят Иван Дмитрич. Вместе с начштаба над картой засел. Приходите днем, а пока где-нибудь сосните, у любого костра. — Казак снова погрузился в дремоту.
Старик в замасленной блузе и фуражке путейца, проходивший мимо, посоветовал:
— Вам бы в ревком, к Точисскому. Там завсегда и свет, и добрый совет. Во-о-он, у пруда.
Над горами брезжило утро, вливалось в котловину, а шум в поселке не утихал. По дорогам проезжали казаки, от костров неслись голоса, детский плач. На западной окраине внезапно вспыхнула стрельба, но вокруг никто и не обеспокоился: такое, видно, было не в диковинку.
8
В прихожей Военно-революционного комитета гудел народ. Заводчане, среди них несколько женщин в красных косынках, обступили секретаря, наперебой толковали кто о белье, кто о выпечке хлеба для верхнеуральских и троицких беженцев, кто об ограблении неизвестными винного склада, кто о выковке пик и ремонте пулеметов. Курносенький парень, Санька Волков, сидел у телефона, что-то кричал в трубку.
Читать дальше