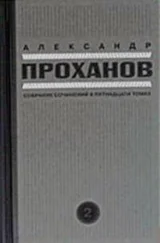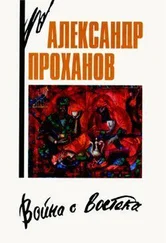Александр Проханов
Синицын
Рассказ
Замкомбата согнулся в траншее, пронося голову мимо зарядных ящиков с красноватой сухой землей. Достиг наблюдательного пункта, врытого в толщу холма. Приблизил лицо к амбразуре, выложенной аккуратно камнями. Быстрым вращением глаз охватил всю просторную знакомую даль с горами, небом, волнистой солнечной степью.
"Зеленая зона" катилась ржаво-коричневая, красно-золотистая, в путанице виноградников, переломанных фруктовых садов, полузасыпанных безводных арыков. Земля, изрезанная, исцарапанная очередями, пробитая и взрыхленная взрывами, прекратила плодоносить. Корни были подсечены сталью, разорваны бесчисленными сотрясениями. Семена изжарились в огне, задохнулись в ядовитых газах пороха. Людские жилища с деревянными навесами, ковровыми подстилками, глиняными горшками и блюдами превратились в рыжий пепел и гончарную пыль.
Мокеев, не поднимая бинокль, просматривал путаницу "зеленки", стараясь углядеть слабый проблеск оружия, бледную вспышку выстрела. Но было тихо и солнечно. Глаза капитана проскользили дальше, к голубоватой дороге, пересекавшей равнину.
Трасса резко обрезала "зеленку", ломалась под углом и точной линией, уменьшаясь, исчезала в предгорьях. На обочинах, на равном удалении, как темные комочки, стояли транспортеры и танки, повернув к "зеленке" пулеметы и пушки. По трассе с утра прошли четыре колонны, черно-зеленые грузовики, колыхая в пыли брезентовыми коробами, бледно светя водянистыми фарами. Ожидалась еще одна колонна, последняя. Когда она пропылит, "бэтээры" и танки сопровождения снимутся с насиженных мест, уйдут в расположение полка, и трасса опустеет, будет остывать под синими вечерними небесами, и только глаза наблюдателей с окрестных застав станут прочерчивать ее линейную геометрию.
За трассой тянулся кишлак — обитаемый, не тронутый артиллерией. Желтые сухие бруски, плоские дувалы и кровли, каменно-глиняное, без единого дерева селение, сложенное из вещества предгорий, слепленное из донных осадков древнего иссушенного моря. Слабые дымки изливались из кишлака, свидетельствуя о невидимой, спрятанной в глину жизни.
Кишлак был мирный. Из него не стреляли, не били гранатометами. Поэтому его щадила артиллерия, не трогали минометы. По уговору с заставой женщины и старики кишлака могли проникать в "зеленку", рыться в корнях изуродованных виноградников и садов. На заставе знали — раз в неделю в кишлак приходит на отдых душманский отряд. Моджахеды расходятся по домам, подкрепляют силы бараньим пловом, ложатся с женами под пестрые одеяла, а до рассвета незримой цепочкой с грузом продовольствия и оружия снова уходят в "зеленку" — воевать, стрелять и минировать. Об этом знала застава. Но уговор с кишлаком допускал появление отряда, который не трогал трассу вблизи кишлака. Ни единая пуля не вылетала из-за желтых дувалов, ни единый фугас не сорвал бетон под колесами военных КамАЗов. Но минометная батарея заставы на всякий случай держала кишлак под прицелом.
Мокеев потратил минуту, чтобы оглядеть панораму. Хотел отвернуться, уйти по траншее обратно. И вдруг пережил мгновенное загадочное изумление. Будто все, что он видел, было воспоминанием, отражением в зеркале и он видит сейчас не истинный, а отраженный, несуществующий мир, имеет дело с мнимым, отпечатанным на стекле отражением. "Это я?.. Здесь?.. Со мной?.." Это чувство нереального и загадочного держалось мгновение и вновь превратилось в каменистую, изрезанную лопаткой траншею, в расщепленный зарядный ящик, в пятно горячего света, в котором клубилась "зеленка", темнела дорога, желтел кишлак. "Это я. Это здесь, со мной", — усмехнулся он, пробираясь по ходам сообщения.
Он выбрался на площадку, защищенную от прямого выстрела склоном холма, где в прорубленных порах размещались казармы, кухня, склады продовольствия и боеприпасов. Увидел: у кормы "бэтээра" сержант Лобанов, крепкий, яростный, злой, бил по лицу наотмашь щуплого солдата Синицына. Бледное лицо солдата отбрасывалось ударами и вновь возвращалось под следующий плоский сильный шлепок. Мокеев растерялся, промедлил, и две громкие хлесткие пощечины ударили по глазам, по губам. Синицын, дергая острыми плечами, не уклонялся от ударов, подставлял под них свое плачущее лицо.
— Отставить!.. Лобанов!.. Подлец! — Макеев рявкнул, рванулся, наливаясь бешенством, ненавидя сильного, хладнокровно бьющего сержанта, покорного избиваемого Синицына, себя самого, промедлившего, пропустившего две пощечины. — Я тебе сейчас врежу!..Под трибунал!.. — Он тряхнул Лобанова за плечо с линялым погоном. Почувствовал, как вздулся под рубахой литой мускул, готовый к удару. — Рапорт прокурору. Башку тебе продырявлю!..
Читать дальше