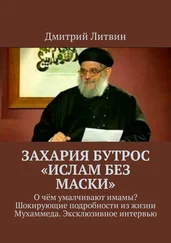— Не дремать, а то и не заметите, как замерзнете! — предупреждал он и об этом. — Вот придет подкрепление, тогда отдохнем немного.
Ему верили. По крайней мере — хотели верить.
Но к полуночи на флангах во рву накопились автоматчики и стали сжимать и без того неширокий участок захваченного рва. Укрыться было негде — разве что за трупами. Так и стали спасаться от пуль. Потом начали складывать перемычки из трупов с одной и с другой стороны.
За перемычками сделалось потише — даже ветер заметно ослаб. Меньше стало ракет и стрельбы. И вдруг Сорокин увидел, как над всем этим полупритихшим ужасом прорезался в небе, как первый улыбчивый зубик младенца, тонкий серп молодого месяца. Он был выкован чисто и тщательно. Он был таким нежным и ясным, что на минуту все плохое и страшное забылось, отлетело, а нахлынуло откуда-то из заветных глубин и далей святое и невозвратное — детство и чистота, начало любви и бесконечность жизни. И хотелось только добра и тишины, хотелось шептать какие-нибудь божественные слова, кого-то звать и кому-то верить. Хотелось жить…
…Сорокина с трудом разбудили. То есть проснулся он сразу, как только услышал слово «подъем», а вот подняться быстро не смог. Не хватило сил и готовности к новым, неизбежно утомительным движениям. В нем сильнее всего была теперь слабость.
«Ну хотя бы полчасика… хотя бы десять… хотя бы пять минут…» — выпрашивал у кого-то Сорокин. И продолжал все это время лежать, испытывая несказанное блаженство во всем своем легком теле, вновь окунаясь в полудрему.
Устал совсем.
Эта непроходящая затяжная усталость особенно закрепилась в нем после того незабываемого противотанкового рва. Тогда внутри у Сорокина что-то предельно истончилось. И хотя он каждые сутки после того спал, однако отдохнуть в полную меру не успевал; дважды в сутки что-нибудь ел — и ни разу не почувствовал хотя бы небольшой сытости. Голод тоже становился непроходящим. Как эта усталость. Вместе с этой усталостью, порожденной недоеданием.
Голод — самое противное и унизительное для человека состояние, хуже которого Сорокин ничего не знал и не мог себе раньше представить. Иногда он просто не узнавал себя, как будто успел переродиться за эти горькие месяцы. Вдруг ему хотелось непривычно, непохоже на себя огрызнуться: «Да что это все время Сорокин да Сорокин, Сорокин туда, Сорокин сюда — железный я, что ли?» А сейчас вот, выгадав лишние мгновения неподвижности и отдыха, он вполне разумно оправдал себя: «Я же лег на два часа позже всех. Я работал, когда другие спали. Могу я за это хотя бы…»
— Ты что, помер там?
Сорокин почувствовал на плече нетерпеливую руку и нехотя сел на соломе. Перед ним стоял сержант Матюх.
— Ухайдакался я, сержант, — признался Сорокин.
— Вижу, вижу.
— Так что вот…
— Дал бы я тебе полчасика, да ведь твоего дружка хоронить идем.
— Да-да-да, — проговорил Сорокин, вспоминая.
— А с кладбища — прямо на задание. Не заходя сюда.
— Куда мы сегодня?
— На минирование…
Сорокину подумалось, что если бы он был понаходчивей и придумал еще какие-нибудь вопросики, то все время разговора сидел бы вот так, без движений, и еще немного продлил бы отдых. Но тут он уже застыдился самого себя и окончательно проснулся, освободился от всей этой сонной одури. А сержант тем временем услужливо перебросил от печки его валенки, накрытые высохшими портянками.
— Лови!
— Спасибо, товарищ сержант, — поблагодарил Сорокин, охваченный каким-то особенным чувством братства.
Рота уже стягивалась к выходу, чуть розоватому от морозного заката. Сорокин быстро оделся, взял котелок и спешным шагом направился туда же, чтобы хоть за самым последним пристроиться.
И успел.
На улице хватало за нос и щеки. Сразу ворвалась в уши не затихающая ни днем ни ночью стрельба к югу от города — отзвуки главной работы переднего края. Рвались снаряды и совсем поблизости — в заводском поселке. Там уже что-то горело, загрязняя дымом чистую нежность вечернего неба.
То ли от свежего воздуха, то ли от чего другого Сорокин вдруг почувствовал головокружение. Остановился, приглядывая какую-нибудь опору, чтобы прислониться и переждать. Но поблизости ничего не увидел. Так что надо было держаться на ногах самому.
— Захмелел от мороза? — спросил его дневаливший ночью парень; он уже возвращался в печь с полученным обедом.
— Вроде того, — отвечал Сорокин.
— Сейчас подкрепишься маленько.
Читать дальше
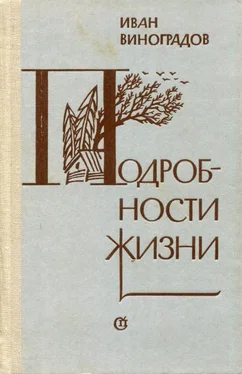

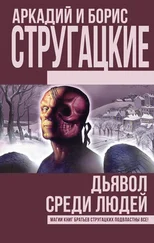
![Иван Виноградов - В центре Европы[Аврора, 1985, № 7]](/books/80934/ivan-vinogradov-v-centre-evropy-avrora-1985-thumb.webp)