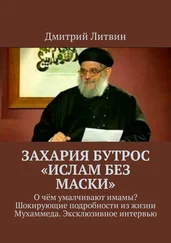— Ну что ж, если ты даже и поднаврал, то складно, — сказал, дослушав все до конца, Сорокин. — Дорога не протянулась.
— С настоящим разведчиком не пропадешь и не заскучаешь, — побахвалился Фатеев.
— И то хлеб.
В пехоту они пришли тогда ночью. Сразу выяснилось, что захватить немецкие позиции стрелкам пока что не удалось.
— Подождите до рассвета, — сказал с некоторым обещанием в голосе командир стрелкового батальона, к которому они обратились.
Значит, на утро была назначена новая попытка.
Они нашли землянку, в которой еще могли приткнуться у двери, ни на кого не наступая ногами. Сперва устроились двое — Фатеев и чертежник, затем втащили Сорокина и закрыли дверь. Никто у них здесь ничего не спросил, никто не обругал. Может, не заметили, может, приняли за своих, а может, эти люди и во сне жили тем, что им предстояло на рассвете, и поэтому никакие мелкие беспокойства их теперь не тревожили.
Наутро — атака.
Даже тот, кто никогда не участвовал в ней, знает, что это чуть ли не самое страшное дело на войне. А тот, кто ходил накануне в неудачное наступление и долго лежал на смертельном снегу, непонятно как оставаясь живым между покойниками, кто отползал в обиде и гневе обратно в свои окопы и в душе сознавал, что все это придется повторить сначала, тот и во сне живет неотступной реальностью: наутро — атака. Его и во сне сосет изнутри предбоевая тоска — жалостная и возвышенная в одно и то же время. И нет ему больше дела ни до чего другого.
Этим же настроением сосредоточенно-отрешенного ожидания прониклись теперь и саперы. Из них одному лишь Фатееву доводилось ходить в атаку, вернее сказать — в контратаку, еще во время отступления. Сорокин только видел, как наступали под Усть-Тосно пехотинцы и моряки. Чертежник ничего такого еще не знал и не видывал, и ему было, пожалуй, тревожнее, чем всем остальным. Молодой, как и все, исхудавший, он сидел между своими товарищами напряженно и молча, весь во власти своих тревожных дум.
Сорокин повидал в полусне-полудреме свою Ольгу. Правда, она возникла перед ним лишь на малое время, ее тут же заслонила и поглотила картина шумного, громко стрекочущего швейного цеха, в котором работницы сшивали большое светлое полотно. Они его сшивали, а оно с треском рвалось и дыбилось. Потом оно стало вроде бы небесным сводом. Работницы полезли тогда на небо — с небольшими ручными машинками, похожими на солдатские автоматы. Полезли зашивать распоротые места. Теперь с ними была и Ольга. Сорокин кинулся было помочь ей, но неловко, обидно споткнулся… Это в землянку вошел с улицы какой-то человек, наткнулся на ноги Сорокина и выругался: «Развалились тут!..» Ушел, плохо закрыв дверь.
Сорокин даже рассердился: «Что за народ!» Но потом вспомнил, что утром все — и вежливые и грубые — пойдут в одной цепи по одному и тому же полю. Встал и прикрыл дверь поплотнее.
Завтракать саперам пришлось прямо в траншее, на холоде, потому что в землянке не хватало места и половине тех людей, что набились в нее за ночь. Солнце всходило в сиреневой морозной дымке и было похоже на огромный воздушный красного цвета шар. Над снегами, над позициями, над нейтральной полосой стояла розоватая мгла. Она многое затушевывала, скрывала, преображала, и в какие-то мгновения просто не верилось, что на этой земле, на этих снегах вот-вот разразится страшное кровавое дело. Может быть, все, о чем говорили и к чему готовились с вечера, начальство сегодня отменило, вернее — отложило до лучших времен?
Но артподготовка началась в свое время, и люди в траншее стали распределяться по отделениям, по взводам и по известному уговору «держаться вместе». Переглянулись между собой и саперы, державшиеся своей группкой. Им совсем не обязательно было идти в стрелковых цепях, поскольку их задание начиналось только после захвата немецких позиций, но все они уже знали, что пойдут в общей цепи. Они не обсуждали этого вопроса, но все как-то само собой передалось от одного к другому. Просто невозможно было сидеть тут и ждать, пока другие прогонят немцев.
Вблизи от Сорокина первым вылез на бруствер совсем еще молоденький младший политрук с яркой красной звездой на рукаве шинели. Лицо у него было свежее, с небольшим румянцем, голос молодой, звонкий, отчаянный и убежденный: «За Родину! Вперед!» Собственно, за ним и пошел Сорокин, почти что бездумно. До этого он еще размышлял над чем-то, понимая, что тут наступает, может быть, наивысший момент его жизни, и напряженно готовясь к нему, как к неизбежной хирургической операции. Теперь же он знал только одно: надо идти! И в этом была какая-то освобождающая легкость.
Читать дальше
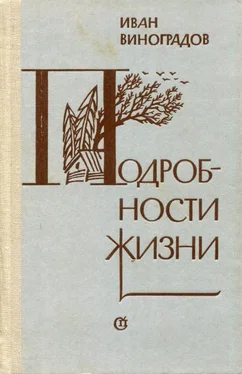

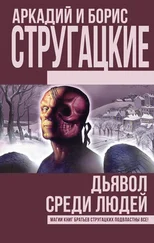
![Иван Виноградов - В центре Европы[Аврора, 1985, № 7]](/books/80934/ivan-vinogradov-v-centre-evropy-avrora-1985-thumb.webp)