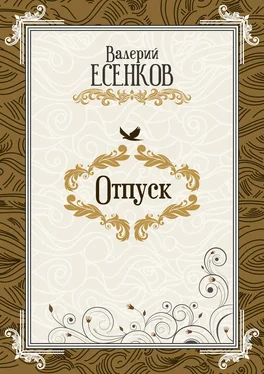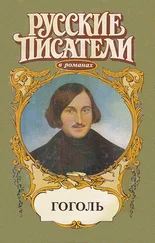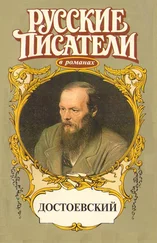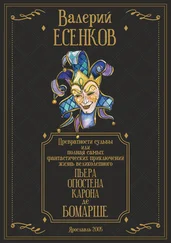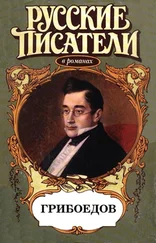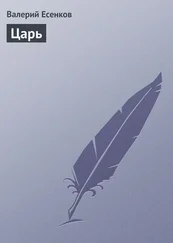Зачастили дожди. Небо висело над самыми крышами, нагоняя тоску.
Ему сделалось всё безразлично. На этой последней грани усталости он был способен думать только о том, что непременно должен писать. Он ждал последней главы, из последних сил подгоняя себя. Он то и дело твердил:
«Скорей же… скорей…»
Он повторял про себя:
«Во что бы то ни стало скорей, а потом не сидеть никогда за столом, не обдумывать ничего, никогда ничего не писать…»
Закончив Андрея, он возвратился к Илье. Он завершал напрасно, бесследно погибавшую жизнь картиной глухого застоя:
«Он лениво, машинально, будто в забытьи, глядит в лицо хозяйки, и из глубины его воспоминаний возникает знакомый, где-то виденный им образ. Он добирался, когда и где слышал он это. И видится ему большая темная, освещенная сальной свечкой гостиная в родительском доме, сидящая за круглым столом покойная мать и её гости: она пьет молча; отец ходит молча. Настоящее и прошлое слилось и перемешалось. Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки меду и молока, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре. Слышит он рассказы снов, примет, звон тарелок и стук ножей, жмется к няне, прислушивается к её старческому, дребезжащему голосу: – Милитриса Кирибитьевна! – говорит она, указывая ему на образ хозяйки. Кажется ему, то же облако плывет в синем небе, как тогда, тот же ветерок дует в окно и играет его волосами; обломовский индейский петух ходит и горланит под окном…»
Нет уж, из последних сил, до потери ума, но только не этот подлый, этот пошлый конец. Лучше помереть за столом, лучше помешаться рассудком от чрезмерной, проклятой, но все-таки милой работы, чем мертвый покой, эта бессмысленность, этот индейский петух под окном или жесткая, леденящая энергия Штольца.
Всё вернулось и встало на прежнее место. И краски нашлись. И от картины, созданной им, казалось, повеяло ужасом.
Только тогда приостановился он отдохнуть.
Погиб Илья, и не о чем стало писать.
Он постоял над ним, точно у края могилы. Он засыпал могилу и надгробный камень на неё навалил. В памяти от Ильи осталась одна могильная тишина.
Однако смутное, глухое чувство нашептывало ему, что не может же он и даже права на то не имеет – оканчивать такой чудовищной беспросветностью целый роман, что гибель Ильи – ещё не гибель России, а стало быть, ещё не финал.
А не было никакого другого финала.
Он видел, что почти приблизился к цели. Он понимал, что оставалось совсем немного наипоследних усилий, чтобы завершить, все-таки завершить, несмотря ни на что, свой десятилетний мучительный труд.
Но не было, не было никакого финала! Он больше знать не хотел ничего. Он словно прилип к дешевому старенькому столу меблированных комнат, словно прирос к деревянному стулу.
И ночи стали бессонны.
Уже не надеясь уснуть, он сокрушался о нелепо прожитой жизни, нелепой не как у Ильи, тем не менее всё же нелепой.
Только подумать, десять лет размышлял, десять лет со всех сторон обдумывал и обтачивал замысел, даже все двадцать, если припомнить первую повесть, помещенную у Майковых в рукописном журнале, воображение десять лет, пробуждаясь в считанные часы недолгого отдыха, упорно лепило сцену за Сеной, десять лет изнемогал он под бременем гигантской идеи, десять лет отчаивался достичь завершения, десять лет, такая уйма годов, что завершение переставало представляться реальным, и все десять лет он считал бессмысленным размышлять о финале. Какой там финал, кончить бы первую часть!
И вот он дополз до него. Надо признаться, на карачках дополз и мог честно сказать, что совершил невозможное, то, что никому не под силу свершить.
В Джунглях утомительной службы он вырубил отпуск и в один-единственный месяц, может быть, несколько больше, чем в месяц, написал роман почти целиком, за пять недель, за тридцать семь с умопомрачительной быстротой промчавшихся дней, около тридцати печатных листов, почти половину того, что написано им за всю предыдущую жизнь.
И вот у дурака на месте финала торчит какая-то мерзкая, безмолвная пустота!..
Тогда им овладело упрямство вола. Наипоследним усилием он терзал выжатую, измочаленную, опустошенную голову. Он курил сигары одну за другой. Он часами с упорством безумия высиживал за столом. Он тупо глядел на чистый прямоугольник листа. Он клял упрямство своё. Он клял свою трусость. Клял что-то ещё. Предавал анафеме весь белый свет и готов был свергнуть Господа Бога, лишь бы хоть что-нибудь засветилось в окончательно обмелевшем мозгу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу