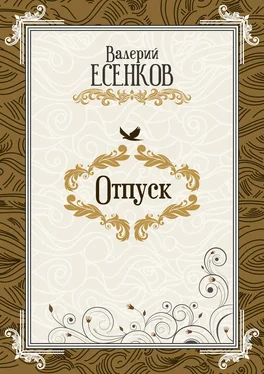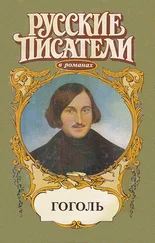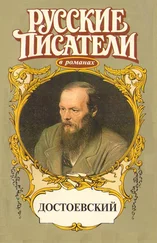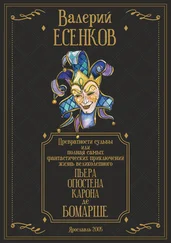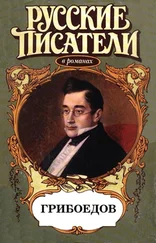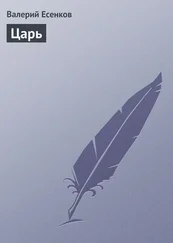Он ожесточенно спросил, стиснув зубы, мрачно глядя перед собой:
«А читатель на что?..»
Вопрос был таким неожиданным, что он распрямился, почувствовал слезы, не на глазах, но в груди.
Так и посыпались быстро, путано мысли:
«Может, и не будет никакого читателя… однако если все-таки будет… ведь он… не дурак… дураки как раз не читаю… хотя… критикуют… одни дураки…» У него обнаружился невидимый друг. Этот друг, многоликий и разный, читал «Обыкновенную историю», раскупил все экземпляры, молча требовал переиздания пустыми прилавками, то одну, то другую страницу заучивал наизусть. Его друг ему доверял. Из чего следовало, что он тоже мог довериться другу.
После славной мысли о добром друге начало наконец отпускать. Надежда забрезжила в беспросветной тоске. Иван Александрович стал раздумывать уверенней, тверже, точно в бескрайнем болоте твердую почву искал:
«Герой может быть, конечно, не поло, может быть недосказано многое, может недоставать той или другой стороны – воображеньем своим читатель суме по заданной идее дописать остальное… Только сильнее обозначить идею…»
Он расслышал, как пели после дождя оживавшие птицы, как под поднявшимся ветром задрожали листы. Он встряхнул зонт, сложил его, сунул под мышку и зашагал широко.
«Разве Онегины, Печорины, Бельтовы досказаны до мелочей? Задача автора – господствующие элементы характера, остальное – дело читателя. Может быть, из всех больших и малых талантов один Сервантес умел досказать во всей подробности своего комического героя, зато местами и скучновато читать. Зотов тоже досказывает свои лица чрезвычайно подробно, так Зотова и вовсе не читает никто. Ты же не лезешь… в Сервантесы… в Зотовы не лезешь тем паче…»
Иван Александрович иронически улыбнулся, испытанной логикой подтвердив прекрасную мысль:
«У тебя – свой путь…»
И зашагал в сторону дома, обреченный на что-то свое. Чувство постигшей его неудачи слабело, но всё ещё оставалось и ныло, точно заноза начала загнивать. Он был насуплен и мрачен. Он не верил, что сможет продолжить свой труд, он не собирался его продолжать, однако о чемодане тоже отчего-то не думал, даже забыл. Хотелось проверить себя, насколько был прав, так решительно изничтожая роман. Пошевеливалась извечная мысль, что ещё возможно что-то поправить, что-то переписать…
Он вошел, чтобы тотчас взяться за рукопись, однако Луиза с особенным тщанием в его комнате раскладывала белье.
Пришлось проверять носки, рубашки, платки. Он сердился, проклиная помеху, чужую метку нашел на платке и едва не зарыдал от расстройства, что и здесь обокрали его: вдруг почудилось остро, точно полоснули ножом, что против него целый мир и Луиза, в особенности, конечно, она, белобрысая дылда.
Он сказал срывавшимся голосом:
– Вы невнимательны.
Она ответила с оскорбленным достоинством:
– Это ваша метка, мосье.
Он возразил, уже не скрывая своего раздражения, предчувствуя, что надвигалась истерика и что он вот-вот завопит:
– Я не слепой.
Она продолжала настаивать:
– Метка чуточку подпоролась, надо пришить.
Он начал беспомощно, и последних сил сдержав истерический вопль:
– Вы хотите сказать…
Она чуть не к самому носу подняла крамольный платок:
– Вы ошиблись, мосье.
Он поднес платок почти к самым глазам, попристальней вгляделся в него, швырнул в сердцах в ящик комода и крикнул сдавленно, возмущенно, жалея себя:
– Этого не может быть!
Она смахнула слезы обиды и выскочила, зацепившись в дверях, гремя тяжелыми башмаками по лестнице.
Иван Александрович остался стоять со сжатыми кулаками, с помутившейся головой.
Роман сочинять… заниматься носками, платками… черт знает что…
Он задул с такой силой свечу, что пламя упало плашмя и тотчас погасло, оставив его в темноте. Он беспомощно постоял, соображая, куда и зачем заспешил, и ощупью кое-как подобрался к постели, натолкнувшись по дороге на стул, проклиная и стул и себя неизвестно за что.
Разумеется, ему не спалось. Он глядел в кромешную тьму и корил себя за Луизу. Безобразная сцена представлялась теперь ещё безобразней. Он протянул ядовито:
«Очень верно изволили заметить: у вас в самом деле – свой путь…»
Он пробудился со страшной болью в висках, как будто в расплавленный мозг со скрипом ввинчивали тупое сверло. Он маялся, не находил себе места, однако после двух чашек кофе все-таки усадил себя за работу.
Глава об Андрее длилась три дня. Глава измотала его. Казалось, он был изнурен до последних пределов, что больше изнуриться нельзя. Он решил бросить всё, однако ещё раз кое-как отговорил себя философией и сумел собрать разбитую волю на труд, отодвинув в сторону уже собранный чемодан.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу