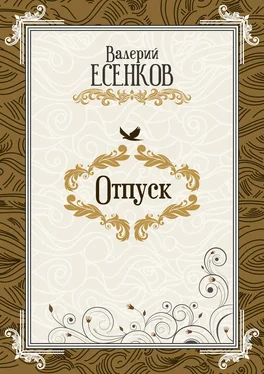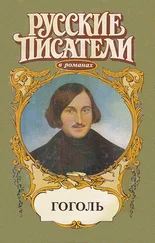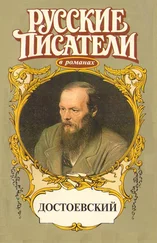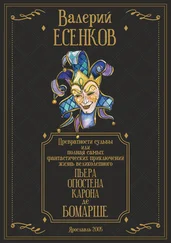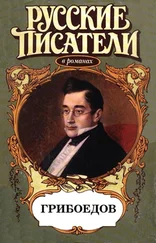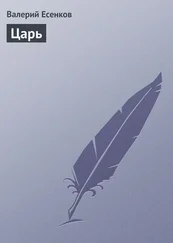Понятно, что труд с каждым днем замедлялся. В течение шести часов до обеда едва удавалось заполнить треть, даже четверть листа.
Между тем он исполнил весь курс, который предписал ему рыжий немец. В Мариенбаде его больше не держало ничто. Только роман не выпускал, не позволял сдвинуться с места, и он остался – без процедур, без присмотра врача. Он жил теперь только романом.
Драма Ильи была в самом разгаре. Илью влекло к противоположным началам: праздник любви, которую не удержишь без беготни, без хлопот, без разного рода свершений, и животная тишь с чашечкой ароматного кофе, ломоть пирога с любимой начинкой, рюмка смородинной водки, синяя дрема в полумраке задернутых занавесками окон, беззаботность, сладкий хмель никуда, ни к чему не ведущих, тем более сладостных грез.
Он писал, а сердце сжималось от ужаса. Он метался по комнате, ставшей его кабинетом. Комната казалась тесной, как клетка. Он толкал мебель, которая загромождала простор. Он сам не верил и вопрошал бестолково, голосом слабым, полным тоски:
«Неужели… праздность, грибочки, огурчики, пироги сильнее, чем прелесть жизни, прелесть любви?.. Неужели… они переборют… духовное наше… наше светлое, человеческое начало?.. Неужели могут превратить человека в жующую тварь?.. И не станет жизни, не станет любви… превратится в это… в совокупление…»
В глазах была ненависть, отчаянье билось в движениях рук. Всю жизнь видел он, как вещи незримо убивали людей. На вещах, на одних только вещах сосредоточились наши желанья, вещи стали единственной целью, единственным наслаждением бытия. Вещи неумолимо заползали во всякую неприготовленную, слабую, нестойкую душу и день за днем комфортом, бережливостью, алчностью, завистью к ближнему, у которого больше вещей, неумолимо высасывали душу дотла, до последнего проблеска и человека превращали в скотину. Венец-то творенья – в свинью…
Ради того он и остался… и мучил себя…
Но что же, что может спасти душу от растлевающей силы вещей?..
Он заметил, что волосы его растрепались. Отчего-то именно это мешало поймать верный ответ на проклятый запрос и превращало запрос в утвержденье. Он не хотел, но и думать не мог, что от власти вещей душе спасения нет. Он только не видел, не слышал ответа. Он понимал, как смешон нелепый беспорядок причин, но всё же холодные пряди, упавшие на лоб, раздражали всё больше, точно лишай, и он поправил волосы грубой рукой, но это не помогло. Он морщился, как будто испытывал боль, он в стекле зеркала проверял, всё ли в порядке с проклятой прической. Он десятки, сотни, тысячи раз передумал над мрачной неотвратимостью неприметных, привычных, вседневных трагедий. Сомнений не оставалось давно: Илья недолго станет выбирать между взыскательным счастьем любви и легко доступным счастьем чревоугодия, но было странно, становилось страшно за тех, кто без мысли, без воли отдавался таким невинным ядовитым соблазнам простых, примитивных услад, кто в них находил и смысл и предел и награду земного существования и самодовольно гнил на диване, не тронутый хотя бы мечтами о том, что выше, лучше, светлей и прекрасней дивана.
Ему хотелось, ему очень хотелось, хотелось мучительно, страстно, чтобы на этот раз, пусть только мысленно, в уме у него и потом на бумаге, в романе совершится великое чудо. Илья, умный, образованный, честный Илья, голубиное сердце, стряхнет с себя эту сонную дурь, святой и светлый человеческий дух одолеет ненасытное тело и воспрянет из грязи житейской чистая, добрая, поистине голубиная суть.
Пусть лишь у него… на бумаге… движеньем пера…
Он задышал тяжело. Открытый рот хватал прокуренный воздух. Лицо сделалось трепетно-бледным. Желтизна залегла на висках. Он чуда хотел. Он требовал живого дела каждому человеку. Он взмахнул рукой и наткнулся на шкаф. Он не ударился, не почувствовал боли. Шкаф был только досадным препятствием на пути, но шкаф и помог ясно видеть иную преграду, которая у каждого из нас на пути.
Вот он чуда желал, живого дела просил… на бумаге…
Легко написать… однако же… как изменить?..
Он четырнадцать лет корпел в канцелярии, перед отчеством и согражданами честно исполняя свой долг. Во имя долга он перелопатил груды казенных бумаг.
И он знал, что бумага бессильна, какова бы она ни была.
Бумагу легко написать…
Однако тому, что написано, верят только глупцы…
В его жизни был один по-настоящему живой человек… только один… разъединственный…
Великий мечтатель…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу