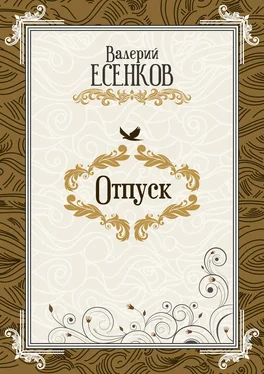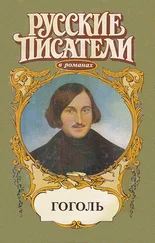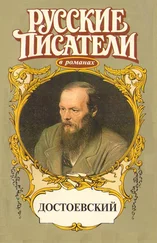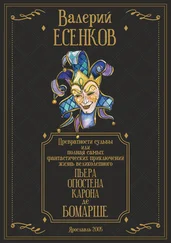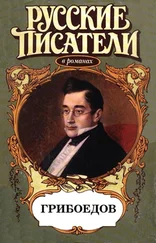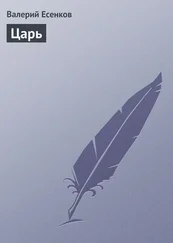Иван Александрович раздумался о пустоте выходящих журналов, о мелкости помещенных в них сочинений, однако мрачные мысли отчего-то не ложились в просветлевшую душу.
Он был доволен, он гордился собой:
– Слепы и жалки все ваши крики и обвиненья. Вы меня обвиняете в лени, но скажите по совести, заслужил ли эти упреки от вас?
Он позабыл, что говорит хладнокровно и сам с собой, что нет перед ним никого. Воображение перенесло его в литературное сборище, кажется, на литературный обед, на каких он обыкновенно ютился в сторонке, привлекать внимание к себе не желая, хранил на лице свое сонное равнодушие и благоразумно молчал, а тут заговорил горячо, назидательно кивая дымящей сигарой:
– Было два года не совсем свободного времени на море, и я написал огромную книгу. Нынче выдались три свободных недели, я дохнул свежим воздухом и написал опять книгу… почти написал… А вы хотите… Вот пилил бы дрова, таскал бы воду и при этом ещё бы романы писал… Романы, которым нужен умственный труд, поэзия, участие свободной фантазии… Варвары! Какие, в сущности, варвары!
Докурил сигару, обрезал вторую.
А с нервами до крайности просто. Нервам нужна перемена, нервам надо передохнуть. Тоска поднялась – и общая колея представилась соблазнительной, и во спасенье помнилась женитьба, и подвернулись мысли о Райском, и вдруг новый роман закипел, тут же бросился на бумагу… именно то, что не нужно, опасно, вредно теперь.
Всё, что угодно, лишь бы не то, от чего вселилась усталость.
А он ждал десять лет этих кратких недель, и если теперь не одолеет себя, придется ждать ещё десять…
Однако здоровье… здоровье…
Лицо его стало колючим, сигара позабыто дымилась в руке.
Что же здоровье…
И наутро он решительно воротился к «Обломову». Совсем короткой была передышка, однако благое дело она сделать успела. Мысли насытились. Мысли были готовы к труду.
«Ты должен стать выше меня…» Ольга могла растолкать, но не могла дать живого, творчески свежего, просветленного дела. Женщина не выходит из пределов привычного бытия. Женщине самой, согласно с природой, нужен сильный мужчина, чтобы повести её за собой… или укрыться за его широкой спиной… от этих… зеленых-то… ящериц… Ольга получит наследство и решит проверить Илью и не скажет ему ничего. Но, предположим, – она бы сказала, она бы Илью в деревню свою увезла… Хорошо, пусть она лучше в деревню поедет с Андреем, то есть со Штольцем. Что она станет делать в деревне?.. Тосковать… станет выспрашивать, в том ли счастье, в том ли праведность жизни… а Штольц… эта энергия, эта деловитость и сила… ей никакого ответа не даст… «Мы не титаны, – он скажет, – мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье и…» И не доскажет, это всенепременно, не сможет ничего досказать. В сущности, без творческих сил… и тоже… мертвец… Художественно это сказать… однако поймут ли эту черту?.. Должны угадать, что сам-то художник ищет в жизни титанов… на борьбу с мятежными-то вопросами… да…
В этом – вопрос…
Кто с мятежными вопросами сразится вместо этих двух мертвецов?.. Кто – русский Манфред и русский Фауст?.. Кто титаны-то среди нас?..
Когда проснешься, великая Русь? Когда найдешь в себе волю подняться над скудным уделом житейского хлеба? Когда закипит живое, не сочиненное, не бумажное дело? Когда воспрянет твой дух?..
Он много, долго думал над этим, однако не брался решать. Он считал, что рано да и смысла нету кому-то решать. Пришло время поставить вопрос. Глубоко, всесторонне, со всей силой ума, со всей болью истосковавшего сердца. Ради этого он и остался… может быть, сгубит себя… А решать станут сами… кто станет читать… Время придет…
Не начать работы без вдохновенья – без последнего напряжения воли не завершить.
И он продолжал. Он был уже страшно измучен и без напряжения воли не мог бы сдвинуться с места. По утрам голова не была уже легкой и светлой, и подолгу просиживал он над чистым листом и не видел ни слова, ни образа, не слышал ничьих голосов. Они были неопределенны, приблизительны, смутны. Он повторял с трудом найденные слова, вертел в голове, пытаясь прояснить и осмыслить, прежде чем положить на бумагу, и слова проступали, становились живее. Тогда он решался их записать, но рука не поднималась, не двигалась, не повиновалась разбитому усталостью мозгу, и он сидел неподвижно, уговаривая бессильную руку наконец взять перо, и пока выламывал из себя свою слабость, начинало казаться, что образ придуман и оттого никуда не годится. Тогда он оставлял этот образ, искал другой, опять усилием воли, но почти каждый раз обнаруживал, что первый образ был все-таки лучше, свежей, а сомнение было вызвано той же усталостью, попыткой стонущих нервов как-нибудь увильнуть от труда. Тогда он принуждал таки руку писать, и рука понемногу расписывалась, и затем продолжала какое-то время без принуждения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу