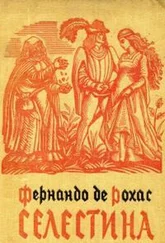Должно быть, я глубоко ушел в свои тяжкие думы, потому что вздрогнул, когда Его величество король похлопал меня по колену. Сдвинув темные брови, король смотрел на меня с любопытством и жалостью. Потом заговорил, и изо рта у него пахнуло табаком и гнилью:
— Что с тобой, старина, спишь или отвлекся? Побледнел, как снег.
— Сеньор, несколько лет назад я построил себе дом на берегу Мансанареса, между Мостолесом, Навакарнеро и Альберче. В Мадриде его называют Дом Глухого, и скоро он перейдет Хавьеру, как наследство. Два года назад, покидая страну, я запер дом, и его отопрут лишь после моей смерти. Сходите тогда, поглядите этот дом, пусть даже закрыв лицо или инкогнито, как, говорят, вы иногда ходите по ночам. Дом этот — мой завет, равно как портрет, который я только что окончил, будет вашим заветом. На стенах дома я написал тот кошмар и тех чудовищ, что открылись мне в жизни, хотя вы, верно, решите, что я рисовал демонов, одолевающих меня, демонов, которые со временем становятся мне все ближе, как, должно быть, вам — ваши подданные, а вашим предкам — их шуты. И даже если роспись придется вам не по вкусу, все равно, не пройдите мимо столовой, потому что там — Сатурн, пожирающий своих детей.
Он опять захохотал этим своим смехом, иногда похожим на смех влюбленной женщины, а иногда — на клекот попугая, подражающего человеческому голосу. В Бордо Моратин [12] Леандро Фернандес де Моратин (1760–1828) — драматург, основоположник испанской просветительской драмы.
рассказал мне, какое письмо написала теща короля после первой женитьбы Его величества Фернандо VII. «Фальшивый, коварный, подлый, к тому же почти импотент, — писала о своем зяте королева Неаполитанская. — Моя восемнадцатилетняя дочь с ним совершенно ничего не чувствует. И терпение, и лечение — не впрок; по-прежнему ни толку, ни удовольствия». Она описывает его внешность: как шар, ростом едва по плечо принцессе, сплошное туловище, ног почти не видно, а голова как у карлика.
— Не испытывай судьбу, старина, можешь потерять мое благоволение, — проговорил он сквозь смех. — Я простил тебе службу французам во время войны, сквозь пальцы посмотрел на болтовню и приятельство с либералами, этой проказой, которая хочет сжить меня со свету. Даже позволил уехать из страны, когда ты боялся за свою голову, а после дал разрешение вернуться. Я могу простить тебе поступки, но грех мыслить — никогда. Конечно, Сатурн — это я, пожирающий мой народ.

«Сатурн, пожирающий своих детей»
— На этот раз Ваше величество ошибается. Сатурн — мой автопортрет, и я понял это лишь сегодня. И именно потому ответил, что счастье на этой земле для меня — умереть прежде моего сына Хавьера. Остальных я погубил, дав им жизнь, болезнью, от которой гнию сам. Все это я понял, разговаривая с Вашим величеством, который по возрасту вполне мог быть мне сыном. Может, я неясно выражаюсь. Я глух, а, наверное, следовало быть и немым. Мне достаточно живописи, ибо, рисуя, я чувствую себя живым.
— Ты выражаешься очень ясно, и мне горько слушать. Я ничего не знал о болезни, на вид ты крепок как дуб. Мало того: твоя боль ранит меня почти так же, как если бы эта боль была моей.
— Может быть, однако не верится, потому что вы всегда жили для ненависти. Знаю только одно, я вернулся в Испанию затем, чтобы понять: я — Сатурн, и еще — чтобы открыться вам. Все остальное — распорядиться о наследстве, взглянуть еще раз на места, где протекала моя сознательная жизнь, — лишь предлог, скрывающий истинные цели. Странно, лишь дожив до восьмидесяти лет, человек понимает, что его прежние поступки в жизни имели совершенно не тот смысл, который он им придавал. Может, никому на свете не ведомо, кто он на самом деле, поскольку никто не знает наверняка, кем бы он мог быть.
— Наверное, нам с тобой уже поздно строить догадки, — прервал он меня, пожимая плечами. — Утешься мыслью, что тебя не будет, а твое искусство останется.
— Сеньор, это уже сказал Микеланджело: люди уходят, искусство остается.
Король взглянул на меня, и выражение его лица разом переменилось. Теперь он ненавидел меня, потому что завидовал во всем, сам того не сознавая: завидовал моим картинам и моему имени, которые мешали ему казнить меня гарротой или сгноить в подземелье, как ему нравилось поступать со своими врагами и как бы, наверное, он поступил с собственной матерью, будь та жива. Он даже завидовал моей старости, может, потому, что боялся, что не проживет столько, завидовал дурной болезни, которая сделала меня глухим и разъедала изнутри, и даже моим мертвым детям за то, что они были не его детьми.
Читать дальше
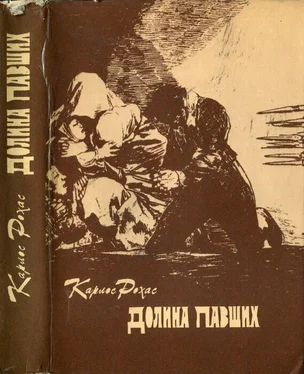







![Константин Муравьев - Тени павших врагов [litres]](/books/409919/konstantin-muravev-teni-pavshih-vragov-litres-thumb.webp)