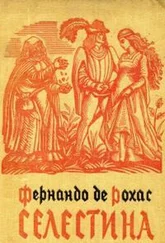«Семья короля Карлоса IV»
Король выглядит восковой фигурой себя самого. Ему пятьдесят два, на два года меньше, чем Гойе, который написал себя с краю подобно тому, как это сделал Веласкес в «Менинах», написал себя пишущим их. Однако монарх выглядит намного старше человека, который увековечил его на этом холсте. Он состарился и не по возрасту растолстел, а было время — отличался крепостью и здоровьем. Его голубые глаза, чуть более темные, чем у брата, Антонио Паскуаля, который выглядывает из-за спины Его величества, кажутся карикатурой на карикатуру, взгляд уходит в пустоту, словно у слепца. Когда принцесса Мария Антония Неаполитанская, на этой картине пока еще невеста Фернандо, родит мертвым своего единственного ребенка, Мария Луиса напишет Годою: «Ребеночек был меньше анисового зерна. Чтобы разглядеть его, королю пришлось надеть очки для чтения». Сама Мария Антония стоит между Фернандо и Марией Исабелью, отвернувшись к картинам, висящим на стене. Она к тому времени еще не приехала из Неаполя, и Гойя, не видя, не мог нарисовать лица. Ему и впоследствии не удалось нарисовать принцессу, и картина вышла неполной. Из-за спины Фернандо и Марии Антонии выглядывает голова старой инфанты Марии Хосефы — сестры короля и Дона Антонио Паскуаля. Глядя на нее, кажется, будто зеркало, в которое смотрятся гойевские ведьмы, меж тем как крылатое время собирается их вымести, возвратило жизни облик одной из них. Украшенное длинными золотыми подвесками и страусовыми перьями, это привидение улыбается. На виске у инфанты родимое пятно, а глаза такие же голубые и такие же стеклянистые, как у братьев.
Справа сбились в группу четверо. Старшая королевская дочь, Карлота, видна лишь в профиль, и только лицо. Она станет королевой Португалии, и ее дочь Исабель де Браганса будет царствовать в Испании, выйдя замуж за своего дядю Фернандо VII; для обоих это будет вторым браком. Герцогиня Абрантес называет Карлоту уродкой: одна нога короче другой, и вдобавок горб. Перед Карлотой стоит ее сестра Мария Луиса с ребенком на руках: некрасивая, с мелкими чертами лица, но открытым взглядом, делающим ее миловидной. Подушка, на которой Мария Луиса держит ребенка, не скрывает ее живота. Рядом — ее муж, принц Луис де Бурбон Пармский, наследник Пармского графства и племянник королевы. Это высокий, светловолосый, остроглазый и губастый молодой человек, в котором уже намечается тучность. Он тоже эпилептик.
На заднем плане картины — полотна, подобно тому, как на заднем плане «Менин» виднеется зеркало, которое на самом деле, может быть, и не зеркало, а картина, а может быть, и окно. У Гойи — за спинами четырнадцати изображенных на ней персонажей — два больших, висящих на стене полотна. Оба они — работы Гойи, хотя их и нет в полном каталоге Гудиоля. На первом — мягкий пейзаж в рассеянном свете, возможно, юношеская работа художника, когда он видел мир таким, каким позволяло его видеть время, — в отблеске просветительских идей; то был период «Игры в жмурки» и пикников на берегу Мансанареса. На другом, потемневшем от лет, с трудом можно различить три фигуры. До 1967 года никто не обращал на него особого внимания, а между тем в этом полотне заключена последняя, нравственная разгадка картины «Семья Карлоса IV».
В июне 1967 года музей Прадо решил реставрировать картину «Семья Карлоса IV», а в декабре были выставлены на общее обозрение удивительные результаты этой работы. На полотне, изображенном позади семейной группы, рядом с пейзажем, являющим светлые березки у ручья, изображена странная оргия гигантов. На этой картине внутри картины широкими мазками, которые идут от Веласкеса и предвосхищают, а быть может, и закладывают основы импрессионизма и экспрессионизма одновременно, Гойя пишет обнаженного титана, вкушающего наслаждение в обществе полуобнаженных женщин, столь же огромных, как и он. Лицо мужчины — несомненно — лицо Гойи, как утверждает Хавьер де Салас, директор Прадо. И никто пока еще ему не возразил.
В 1800 году, начав писать «Семью Карлоса IV», Гойя уже восемь лет как был совершенно глух и жил в долг. В 1792 году микробы сифилиса, по-видимому перенесенного Гойей в ранней юности, о чем, судя по всему, он до той поры не знал, попадают в слуховой канал, и целых два года художник находится на грани жизни и смерти. Андре Мальро сравнивает его с одним из тех больных, которые, выскочив из смертельной агонии, становятся медиумами. Пережив такой кризис, Гойя, заключенный в вечную тишину, сквозь всю оставшуюся жизнь пронесет отсвет иного мира. Только Гойя будет заклинать живых призраков, а не мертвые привидения. Поэтому его чудовища кажутся Бодлеру такими vraisemblables [10] Правдоподобные ( франц. ).
, такими достоверными. Глухой Гойя описывает черную ночь души, где жизнь скрывает свою самую страшную правду. Смерть, чтобы раскрыть эту правду, явится шестнадцать лет спустя, в другой роковой день его жизни, 2 мая 1808 года, когда на площади Пуэрта-дель-Соль он окажется свидетелем жестокого сражения между народом и мамелюками Мюрата.
Читать дальше
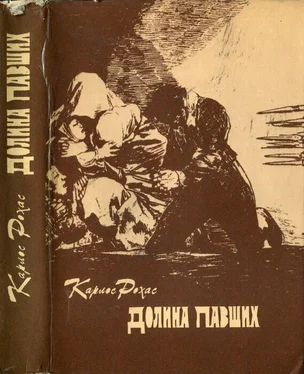







![Константин Муравьев - Тени павших врагов [litres]](/books/409919/konstantin-muravev-teni-pavshih-vragov-litres-thumb.webp)