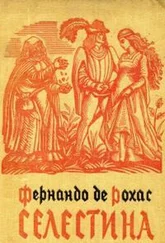— Слишком хорошо мы знаем друг друга. Без сомнения. — Он несколько раз медленно кивнул головой, не то задумавшись, не то огорчившись. — Ты не хотел хоронить своих детей. А я был счастлив, как никогда, узнав, что мои родители умерли. Скоро семь лет, как в Риме скончалась мать, а через десять дней отец последовал за ней — из Неаполя прямиком в ад. Только тогда, и впервые в жизни, я почувствовал себя свободным. Потом-то понял, что это не так, что свободным на самом деле можно быть лишь в том случае, если тебя не зачинали. Свободны только те, которые никогда не были, ибо даже мертвые отбывают наказание. А все остальное на свете, в том числе и королевская власть, — след на воде да судейские кляузы. — Он замолчал на мгновение, глядя мне прямо в глаза, и рыгнул. — Пустая роскошь разговаривать с глухим; все равно что исповедоваться каменной стене.
— Сеньор, вы забыли, что я читаю по губам.
Глухим на этот раз оказался он, а может, просто не слушал меня. Заложив ногу за ногу, развалясь в кресле, он курил неторопливыми затяжками и, прищурясь, созерцал потолок, расписанный Тьеполо. У погасшего камина на мольберте стоял его портрет, который я только что закончил. Я устало и холодно, будто на чужую работу, посмотрел на портрет и почувствовал удовлетворение. Этот портрет — его, а не мой завет людям.
— В день смерти матери сестра Мария Луиса написала мне из Рима письмо. — Тут он вздохнул и почесал у себя между ног. — Моя мать умерла почти, как говорится, на руках у Годоя. Целую неделю он не отходил от постели умирающей, оставался один на один с нею. Перед самой смертью мать позвала Марию Луису и сказала: «Я умираю. Оставляю тебе Мануэля. Приблизь его к себе, преданнее человека вам с Фернандо не найти». — Он пронзительно захохотал, тряся своей сплющенной у висков, слишком вытянутой над покатыми плечами головой. Когда сестра увидела, что дело плохо, она удалила из покоев колбасника, лившего слезы точно кающаяся богомолка, и позвала священников. Они причастили мать, соборовали, словом, оказали духовную помощь. Однако вряд ли это помогло ей на том свете.
— Сеньор, вы забываете, что я читаю по вашим губам.
— А мне начхать, читаешь ты или слышишь меня, старик! — Он почти взвизгнул и побагровел, точно яблоко. — Ты, верно, забыл, что я — король, а тебе скоро гнить под могильной плитой, как гниют мои родители и твои сыновья! — И тут же переменился — такое бывало с ним часто, — улыбнулся неприятной улыбкой и уперся рукой в мое колено. — Ты ведь на меня не сердишься, правда? Припомни, сколько раз ты заработал гарроту, а я всякий раз прощал. Вот и сейчас ее заслужил — нарисовал меня таким, какой я есть, а не каким бы я хотел видеться людям. Это справедливо, что ты глух, как церковный колокол, оттого-то и смотришь на мир и на ближнего глазами, правдивее, чем зеркала. А сейчас я открою такое, чего никто не знает. Моя мать оставила все свое состояние любовнику, колбаснику. Но, разумеется, я сделал так, что Годой и в глаза не увидел ни гроша из всех тех богатств. Будь уверен, Годой окончит дни в Париже, сгниет в нищете.
Он улыбнулся и весь ушел в приятные воспоминания. Сцепив руки, он тер и разминал ладони, так что трещали суставы. Руки у него были чересчур короткие, отечные, плебейские, с приплюснутыми пальцами и толстыми ногтями. Точь-в-точь как у моего сына Хавьера. И вдруг — как прозрение — мне пришла в голову мысль, что и Его величество король вполне мог быть моим сыном. Такой уродливый душою и телом, как если бы еще до рождения отравленная кровь отца искалечила ему плоть и дух. Французская болезнь, которую я подцепил в ранней юности в каком-то публичном доме и которая уже тогда, тридцать четыре или тридцать пять лет назад, заронила в меня глухоту, вполне могла изуродовать и его, будь он моим отпрыском, сделать вот таким: пузатым, безобразно смешным шутом со слишком вытянутой головой и телом, руками и ногами как у тряпичной куклы и злобным взглядом темных глаз, в котором сквозит порок и по которому, как по книге, можно прочесть все его предательства, трусость и жестокость. О какой свободе может идти речь, если я, зачиная его, обрекал бы на вырождение? И разве не справедливо чудовищное утверждение короля, что свободны лишь те, которых никогда не было на свете, ибо даже мертвые в аду страдают за чужие грехи?
Когда я был совсем молод и еще только начинал писать для Королевской шпалерной мануфактуры, родился наш сын Висенте Анастасио. «Очень красивый, крупный мальчик, — написал я своему другу Сапатеру, — и родился в срок». А на следующее утро мальчика нашли мертвым в колыбельке, желтого, словно мощи, с запекшейся струйкой крови на губах. Всего несколько часов назад младенец сосал грудь с аппетитом, и, как рассказывала потом жена, ей показалось даже, что он улыбался. Через два года Хосефа родила мне Марию дель Пилар Дионисию. У нее была огромная голова, почти как у взрослого человека, но с узким, как у обезьяны, лбом. Роды длились бесконечно долго, а когда наконец ребенка вынули и обмыли, то мне сразу же сказали, что добра не ждать, что в его непомерно большом черепе вода давит на мозг. Потому-то я и дал девочке такое звучное имя, как у одной герцогини, — по контрасту с ее уродством и, главное, с ее участью. Она была ласковым уродцем, все время улыбалась и мило гримасничала. Хосефе она внушала ужас; а я целые часы проводил у кроватки, глядя в ее глаза — точь-в-точь как у раненого олененка. Девочка умерла, когда ей сравнялся год, и так же тихо, как Висенте Анастасио. Другая дочь, Эрменехильда, родилась мертвой, успели только окрестить и сразу же предали земле. А когда жена понесла Хавьера Франсиско Педро, после скоропостижной смерти Франсиско де Паулы, я через своего шурина Байеу договорился с врачом из Королевского дома, который принимал при родах Его величество, что он придет и разберется, какой недуг у нас в роду. И нашел болезнь в моей крови. Он сказал, что беда эта непоправима, потому что о болезни этой известно только, откуда она взялась. Ее подхватили в Перу конкистадоры, которые насиловали лам, когда им надоедало проделывать это с индианками. Я передавал заразу моим детям с семенем, хотя могло случиться и так, что с помощью небес я бы вдруг зачал здорового ребенка. Молча — точно так же, как умирали мои дети, — решил я тогда, что убью себя, если умрет тот, кого мы ждали. Решение было принято холодно и бесповоротно, и я, упрямый, как все арагонцы, выполнил бы его вопреки собственным инстинктам и жадному жизнелюбию. Этого не случилось, потому что Хавьер удался. Он был таким красивым и таким здоровым, что я написал Сапатеру: хоть весь Мадрид созывай смотреть на него — до того хорош.
Читать дальше
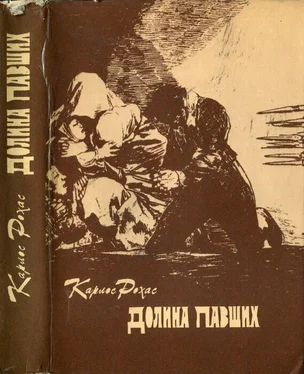






![Константин Муравьев - Тени павших врагов [litres]](/books/409919/konstantin-muravev-teni-pavshih-vragov-litres-thumb.webp)