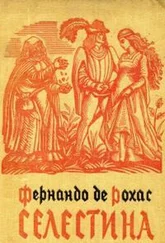— Зачем вы притащили меня во дворец? Почему так упорно требовали написать ваш портрет, едва я снова оказался в Мадриде? — Гнев на Его величество вдруг вспыхнул во мне: зачем вынуждает вспоминать мертвых! И я удивился, почувствовав, что кричу, кричу тем самым голосом, которого мне уже больше не слышать.
— Ты — часть моего прошлого, которую не хочу забывать. От тех лет храню в памяти только тебя и мою первую жену, какой она была в последнее время. Помнишь, в начале столетия ты писал наши портреты и всем, одному за другим, смотрел в глаза, а мы опускали головы. «Это единственный человек, — сказал я себе тогда, — которого по-настоящему можно уважать». Когда под конец мы позировали все вместе, я подумал: до чего похожи на комических актеров на подмостках. Потом, глядя на законченную картину, родители рассыпались перед тобой в похвалах, не замечая, точно слепые, какой ужас внушает этот парад призраков и выкидышей, отображенных на холсте точно в большом зеркале; а я решил: «Безразлично, что мы сумеем сделать или, наоборот, чего не сделаем, безразлично, будем мы трудиться или бездействовать, потому что эта картина переживет нас. Здесь все мы как на суде и все приговорены, даже дети, ведь любой слепец увидит, что Мария Исабель и Франсиско де Паула — дети не моего отца, а Годоя».
— Сеньор, оставим мертвых в покое.
— Не я о них вспомнил, а ты.
— Я написал ваше августейшее семейство таким, каким я его увидел.
— Вернее сказать, такими, какими мы были, и теперь снова нарисовал меня таким, какой я есть. Впрочем, ты тоже приговорен: писать правду. — Его снова охватило раздражение, он расплющил сигару в пепельнице. — Эти мертвые, как ты их называешь, сделали из меня то, что я есть, они превратили мою жизнь в позорный кошмар! Знаешь, как называла Неаполитанская королева мою сестру Исабель, когда женила на ней своего сына? Прижитая эпилептичка, вот именно — прижитая эпилептичка! А знаешь, что ответила моя сестра Карлота на упреки в том, что сразу же после свадьбы с принцем Португальским завела коллекцию любовников? «Не намерена иметь одного фаворита, не хочу, чтобы меня били, как Годой бил мою мать». Представляешь, каково шестнадцатилетнему мальчишке — а мне столько и было, когда ты рисовал нашу семью, — прочитать копию выкраденной у французского посла докладной записки, где говорилось, и с полным на то основанием, что ни один пьяный солдат не решится так унижать публичную женщину, как унижал мою мать Годой? Ну что, продолжить список моих тогдашних мучений, припомнить и то, что августейший отец, король, не способен был купить даже часы, не посоветовавшись прежде с тем самым Годоем?
— Вашему величеству следовало бы забыть этих мертвых, а уж если вспоминать — то молча.
— А ты можешь забыть своих детей, которых похоронил, можешь забыть свою французскую болезнь?
— Нет, — ответил я, — этого не могу.
— А, значит, мы с тобой — два сапога пара, потому что никому на свете не дано быть выше других.
(Воспоминания осыпались, точно спелые черешни с дерева, замирали, а потом вдруг одно из них вспыхивало и загоралось, словно факел, в глубине времени. Глядя на только что законченный портрет короля, я вдруг увидел его юношей, каким он был много лет назад, когда я писал всю семью. На нем были серые чулки, небесно-голубые панталоны и камзол, а через грудь — орденская перевязь Карлоса III. Уже тогда у него намечалось брюшко преждевременно состарившегося человека, а плечи были узкие и покатые. Королева при всех сказала мне: «Придется подобрать ему корсаж. Груди — как у девицы». Он сдержался: не произнес ни звука и даже не покраснел, но под бровями, столь же широкими и густыми, как и теперь, мне почудился взгляд раненого оленя, какой я видел в глазах моей Марии дель Пилар Дионисии, лежавшей в колыбельке. Потом неожиданно радужное мерцание глаз отвердело, и они сверкнули ненавистью и иезуитством. С этой самой злобой и коварством в глазах я и написал его на семейном портрете. Несколько ночей потом мне снилось, что он пронзает меня полным ненависти взглядом, точно таким, какой метнул тогда в мать, и я просыпался, беспомощно мыча, как все глухие. Когда я показал готовую картину, он, единственный, воздержался от похвал. Стоял в стороне от остальных и, мне показалось, улыбался, однако не от удовольствия, что все вышли такими похожими, а посмеиваясь над их безудержными похвалами, меж тем как в глазах его отца, короля, блестели слезы умиления. Потом король, довольный, еще раз похлопал меня по спине и поздравил с успехом.
Читать дальше
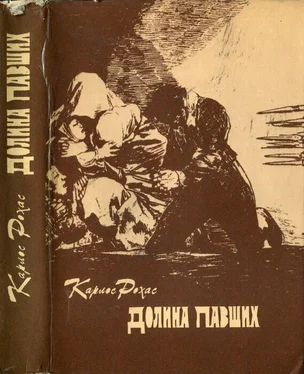






![Константин Муравьев - Тени павших врагов [litres]](/books/409919/konstantin-muravev-teni-pavshih-vragov-litres-thumb.webp)