Она не произнесла ни слова. Когда я умолк, она склонилась надо мной, поглаживая рукой волосы:
– Прости свою Нино, Али-хан. Какой же глупой я была. Не знаю, почему я решила, что тебе будет легче приспособиться и измениться, чем мне. Мы останемся здесь и забудем про Париж. У тебя будет твой азиатский город, а у меня – европейский дом.
Она нежно поцеловала меня. Глаза ее блестели.
– Нино, наверное, очень трудно быть женой такого человека, как я?
– Нет, Али-хан, совсем не трудно. Необходимо только немного здравого смысла и понимания.
Она поглаживала мне лицо. Моя Нино была сильной женщиной. Ее давняя мечта была разбита. Я усадил ее на колени.
– Нино, как только родится малыш, мы отправимся в Париж, Лондон, Берлин или Рим. У нас еще будет медовый месяц. И останемся в любом понравившемся тебе городе на целое лето. Мы станем ездить в Европу каждый год, ты же знаешь, я не тиран. Но здесь мой дом, я принадлежу этой стране, потому что я сын этой степи, этого солнца и этого песка.
– Да, – произнесла она, – причем очень примерный сын. Мы забудем о Европе. Но твой ребенок, которого я ношу, не будет ребенком степи или песка. Он будет просто дитя Али и Нино.
– Да, – ответил я, давая согласие стать отцом европейца.
– У твоей матери, Али-хан, были очень тяжелые роды. В то время мы не вызывали европейских врачей для своих жен.
Мы с отцом сидели на крыше нашего дома. Голос отца был тихим и печальным:
– Когда у твоей матери усилились схватки, мы дали ей выпить толченую бирюзу и алмаз. Но это не особенно помогло. Чтобы вырастить тебя набожным и храбрым, мы повесили твою пуповину на восточной стене комнаты, рядом с кинжалом и Кораном. Позже ты носил ее на шее как талисман, не доставляя нам хлопот своим здоровьем. В три года ты снял пуповину и сделался болезненным ребенком. Мы вначале пытались отвести от тебя хвори, оставляя в детской вино и сладости. Запустили в комнату петуха с цветным хвостом, носившегося взад и вперед, но и это не помогло отвратить болезни. Потом мы нашли в горах какого-то знахаря с коровой и пригласили его к себе. Корову закололи, знахарь вынул ей внутренности и положил тебя в ее нутро. Когда тебя вытащили, кожа твоя была красного цвета. С тех пор наш мальчик ни разу не заболел.
Из дома донесся долгий приглушенный крик. Я сидел прямо и неподвижно, стараясь полностью сосредоточиться на рассказах отца. Раздался еще один крик, протяжный и жалобный.
– Это она тебя проклинает, – сообщил тихо отец. – Все женщины проклинают мужей во время родов. В старые времена, родив ребенка, женщина закалывала барана, окропляя его кровью тюфяк мужа и малыша, чтобы отвести беду, которую она накликала на них при родах.
– Сколько это будет продолжаться, отец?
– Пять или шесть часов, а может, и все десять. У нее узкий таз.
Он умолк. Может, вспомнил свою собственную жену, мою мать, которая умерла при родах. Затем поднялся.
– Идем, – сказал он и направился к двум красным коврикам для намаза, расстеленным посредине крыши по направлению к Мекке, Каабе.
Мы разулись, опустились на коврики и сложили на груди руки, обхватив локоть левой руки ладонью правой.
– Это все, что мы можем сделать, но молитва важнее всех знаний врача.
Он наклонился вперед и начал молиться по-арабски:
– Бисми Илахи аррахмани рахим — во имя Аллаха Милостивого и Милосердного…
Я повторял за ним молитву, стоя на коленях на коврике и касаясь лбом пола:
– Ахсшду Лиллахи раби-л-аламин, аррахмани, рахим, малики джауми дин — хвала Аллаху – Господу миров, Милостивому, Милосердному, Царю в день суда…
Я сидел на коврике, покрыв руками лицо. Снизу все еще раздавались крики Нино. Доносясь до моего слуха, они уже не так трогали меня. Губы произносили аяты Корана так, словно они больше не принадлежали мне:
– Ипака на буду вапака настаин — Тебе мы поклоняемся и просим помочь.
Я положил руки на колени. Воцарилась тишина. Я слышал, как шепчет отец:
– Ихдина сирата-лмустагим сирата лладина анаммта ачаихим — веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал.
Я коснулся лицом коврика и наклонился всем телом вперед. Красные узоры коврика слились в одно целое.
– Гаира лмагдуми алаихим вала ддалин — не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.
Так мы лежали в пыли и молились Аллаху, вновь и вновь повторяя слова молитвы, слова, которые Аллах вложил в уста пророка на языке арабских кочевников. Я сидел на коврике, скрестив ноги и перебирая пальцами четки. Губы шептали тридцать три имени Всевышнего.
Читать дальше
![Курбан Саид Али и Нино [litres] обложка книги](/books/420239/kurban-said-ali-i-nino-litres-cover.webp)




![Кристоффер Хольст - Летний сон в алых тонах [litres]](/books/389316/kristoffer-holst-letnij-son-v-alyh-tonah-litres-thumb.webp)
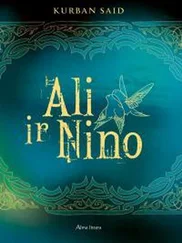
![Клайв Баркер - Алые песнопения [litres с оптимизированной обложкой]](/books/414014/klajv-barker-alye-pesnopeniya-litres-s-optimizirov-thumb.webp)
![Клайв Баркер - Алые песнопения [litres]](/books/414077/klajv-barker-alye-pesnopeniya-litres-thumb.webp)
![Амели Вэнь Чжао - Алая тигрица [litres]](/books/431325/ameli-ven-chzhao-alaya-tigrica-litres-thumb.webp)
![Элизабет Лим - Шесть алых журавлей [litres]](/books/431984/elizabet-lim-shest-alyh-zhuravlej-litres-thumb.webp)
![Саймон Хоук - Заговор Алого Первоцвета [litres]](/books/436127/sajmon-houk-zagovor-alogo-pervocveta-litres-thumb.webp)
![Виктория Авеярд - Алая королева [litres]](/books/438430/viktoriya-aveyard-alaya-koroleva-litres-thumb.webp)