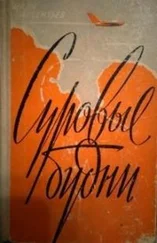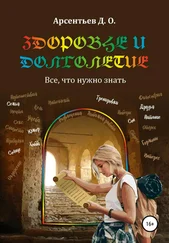Буксир загудел почему-то часто и зычно. Евдоким подкинул дровишек в печку, вышел из каюты. Небо и река сливались, забрызганные серой пылью леденящего ситничка. Подвывало в снастях, черный дым клочьями срывался с трубы буксира и, раздерганный ветром, тут же бесследно исчезал. Берег окаймляла грязно-белая крученая лента пены, выше тянулись по-осеннему поредевшие обнаженные леса. Пониже Студеного оврага посреди глухой заводи, точно на черном стекле, быстро кружились красные листья осины.
«А ведь если придерживаться теории, то начинать следует не так и не с того, с чего начинали буянцы», — раздумывал Евдоким. И тем не менее, их азартная вера в торжество мужицкой правды увлекла его и все сильнее притягивала своей смелостью и новизной.
Евдоким вернулся в каюту. Пароход натужно пыхтел, да потрескивали не то дрова в печурке, не то сам старик дебаркадер. Волга была пустынна, лишь вдали, видать, к Рождествено, правила одинокая лодка. Евдоким позавидовал смелости неведомого волгаря, пустившегося в плаванье в такой ветер. Не так ли плыл десять лет назад молодой Ульянов с товарищами своими в Царевщину? Впрочем, буря тогда, как рассказывали, была куда сильнее. Отрадно сознавать, что не переводятся на Руси храбрые люди.
Буксир тащился недалеко от берега, а обгоняя его, почти у самой воды, летела стая полуслепой от ненастья свиязи. Упрямые птицы, они нравились Евдокиму, в их поведении, казалось, было много разумного, достойного подражания.
Евдоким отгонял от себя со смутной тревогой мысль, что за пределами Буяна существует огромная враждебная империя с ее дикостью и мраком. «Опыт человеческий утверждает: кто хочет научиться плавать, тот никогда не должен плавать с бычьими пузырями… — говорил себе Евдоким. — Великая сила примера заставит по-новому циркулировать кровь деревни».
Гремучее, беспокойное время…
Оно заставляло Евдокима внимательнее присматриваться к политическим событиям и переводить их на язык обыденной жизни. Его тревожило, что затеянное буянцами может остаться в неизвестности.
«Тьма не любит света. Виноватый боится гласности. Царю чуждо горе народное. Потому в России и нет свободы печати, как в Швейцарии, где Ленин издает свои книги для русского народа, обличает в них несправедливость жизни. Без свободы печати народы останутся навеки рабами власть имущих».
Так думал Евдоким, беспокоясь о судьбе задумки своих земляков.
* * *
Подождав, пока каптер пересчитает имущество плавучей пристани, и получив от него расписку, Евдоким отправился в город. В затоне ему сказали, что стачечный комитет и представители рабочих союзов помещаются в Пушкинском народном доме на Москательной улице. Поднялся по Алексеевскому спуску, пересек Дворянскую, и запахи жареного щекотнули ноздри. Евдоким глотнул голодную слюну, свернул налево, в «Кафедралку» — пивную, куда качали пиво по трубопроводу прямо с завода фон Вакано.
Через огромные зеркальные стекла с улицы было видно пестрое сборище. Евдоким вошел, и его оглушило стуком барабана, переливами «саратовки». Трое молодцов в углу, сбросив пиджаки и взвизгивая, деловито отплясывали что-то задорное. Зал, повитый дымным туманом, казалось, был вымощен головами, стаканами, разноцветными бутылками, залит разноголосьем песен, смеха, криков. Чувствовалось, что сюда приходят не столько выпить, сколько услышать нечто новое или сказать свое. В этой метелице звуков, запахов, пестроты, многократно отраженной в зеркалах, сновали половые с мокрыми от пота лбами, в фартуках из зеленого сукна, умудряясь держать в руках зараз по десять кружек пива.
Евдоким пристроился за столиком, где уже сидело четверо. Принесли закуски, кружку пива. В это время раздались громкие крики — в зал входила молодая женщина. Все посмотрели на нее и как-то покачнулись. Наступила тишина. Женщина двигалась по залу уверенной волнистой походкой, встряхивая копной густых черных волос, расталкивая бедрами толпившуюся в проходе публику. Глаза у нее были тоже черные и очень большие. Издали она казалась цыганкой, но вблизи больше походила на молодую еврейку или, быть может, персиянку, если такие водились в Самаре. Губы ярко накрашены, а талия настолько тонка, что Евдокиму даже не поверилось. «Где же я ее видел?» — напряг он память и не вспомнил. И все-таки осталось убеждение, будто видит ее не впервые. Она была красива не по-здешнему: пугающе и неотразимо. Постояла несколько секунд в середине, оглядывая нагловато-наивным взглядом зал. За столом, по соседству с Евдокимом, что-то глухо грякнуло. Высокий широкоплечий мужчина с воловьими глазами, словно приклеенными к багровому лицу со вздутыми желваками, стоял подбоченясь, а у ног его валялись двое сотрапезников, которых он только что вышвырнул из-за стола. Вслед за ними он смахнул на пол и всю посуду, освобождая место для появившейся необыкновенной гостьи. Облизнул толстые губы, крикнул: «Сипавка!» и пошел ей навстречу. Но она, не взглянув, проплыла мимо. Теперь и волоокий показался Евдокиму знакомым. Проводив бешеным взглядом Сипавку, он сжал кулаки и сунул их в карманы. А она подошла к столу по ту сторону прохода, где какая-то шумная компания предложила ей место, задрала до пояса пышную юбку, под которой ничего больше не было, и уселась на стул. «Кафедралка», видавшая, должно быть, уже не раз этот номер, взвыла от восторга. Через несколько минут Сипавка уже бушевала, ссорилась с какой-то товаркой, а потом — с одетым франтовато молодым человеком, огрызалась и нападала. Евдокиму слышно было, как она клялась, что приезжавший в Самару художник Илья Репин одну ее, Сипавку, приглашал за большие деньги как модель для рисования.
Читать дальше