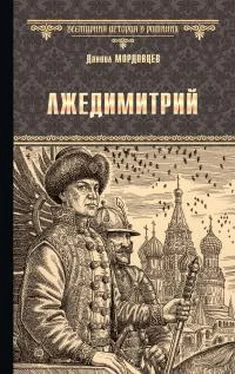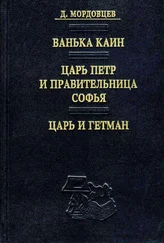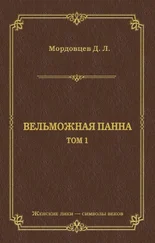— И этот самый биток собакам кинем, — добавляет голова стрелецкий.
— Ну, московские православные собаки еретичьего-то мяса и есть не станут, — поясняет купчина.
— Нет, отцы и братия, это дело надо сделать, подумавши и Богу помолившись, — снова начинает Шуйский. — Мы маленько пообождём — пускай колос созреет на нашей ниве, а мы тем временем серпы-то наточим да освятим их, тогда и жать пойдём... Вот пущай приедет его невеста-еретичка да со всем своим выхухолевым гнездом, с батюшкой да с матушкой, да со сродничками-то, пущай они привезут с собой всё злато и серебро и узорочье всякое, что им наш-от венчанный бродяга надарил, да пускай запой свадебный сделают, да звоны всякие по Москве распустят, да вонсы задерут кверху, — так тогда мы всю эту польскую выхухоль и накроем, да и шкурку с неё сдерём: и их-то порешим, и казне-то нашей будет прибыль, неё... Вот как надо делать — начистоту!
— Ладно, обождём, — соглашается стрелецкий голова.
— Эх, жаль! Руки-то зело чешутся на этого польского свистуна, — протестует Валуев.
А «свистун», ничего не подозревая, в этот самый вечер о нём же хлопочет, о Шуйском. Узнав от него, что он потому не женился до пятидесяти четырёх лет своей жизни, что девушка, которую он любил, вышла замуж за другого, за Бориса именно, а теперь-де за него, за старого, никто не пойдёт, энтузиаст-свистун проведал, что у князя Буйносова-Ростовского есть хорошенькая дочка княжна Марьюшка, приятельница Ксении, и тотчас же приступил к сватовству.
— Так пойдёшь за него, княжна Марьюшка? — допытывает её добродушный царь-свистун. — Князь Василий Шуйский хороший человек. Пойдёшь, черноглазая воструха?
— Пойду, государь, коли батюшка с матушкой благословят, да ты скажешь, — отвечает, краснея как мак, черноглазенькая и курносенькая Машенька Буйносова.
— Я не указываю, а советую. Он хороший человек.
А этот хороший человек нож точит, да чтобы повострей был. Эх, горемычный царь-бродяга!
XXIII. Телега со стрелецким мясом
Над Москвой висит снежное, тёмное, метельное, ветрами позевывающее ночное небо. Снегом посыпает это хмурое небо и дома, и церкви, и площади, и улицы с переулочками. Спит Москва, только изредка, словно из боязни, потявкает где-нибудь добросовестный пёс часовой и снова замолчит. Скоро уснул и позевывающий ветер, которому, казалось, скучно было дуть на сонный город, и он сам прикорнул. Уснули и часовые, что оберегали дворец кремлёвский и тоскливо посматривали на окна терема, в которых ещё блестел огонёк.
Это терем Ксении. Там не спят. Молоденькие, свеженькие личики девушек наклонены над ветхой харатьей-рукописью, пожелтевшей от времени, как желтеет лицо старости. Какой контраст смерти и жизни! — эта ветхая харатья, на которой полууставом начертаны бессмертные слова человека давно умершего, и эти свежие, полные жизни личики, которые в мёртвой харатье искали утешения, ответа на их вопросы жизни и смерти.
— Как же, голубушка царевна, ты сама прежде сего сказывала, что Даниил Заточник не похваляет монашеской жизни, а теперь что же? — слышится мелодичный голос княжны Буйносовой.
Ксения молча перелистывает рукопись — «Слово Даниила Заточника».
— Прочти то место, царевна, где он говорит о мертвеце на свинии, о бесе на бабе, — слышится другой голосок — Оринушки Телятевской.
— Вот то место, — отвечает Ксения, останавливаясь на одной странице: «Или речеши, княже, пострижися в чернцы? Не видал есми мертвеца на свиниях ездячи, ни черта на бабе, ни едал есмь от ивия смоквы. Луче ми есть тако скончати живот свой, нежели, восприимши ангельский образ, Богу солгати. Лжи бо, рече, мирови, а не Богу: Богу нельзя лгати, ни великим играти. Мнози бо, отшедше мира сего, паки возвращаются, аки пси на свои блевотины, на мирское гонение, на играние, бесом: беси бо ими играют, яко обешенными птицами. Мнози бо обходят сёла и домы сильных мира сего, яко пси ласкосердии: иде же браци и пирове — ту чернцы и черницы...»
— Так как же, голубушка царевна, ты пойдёшь в монастырь? — настаивает княжна Буйносова.
— Да я и не буду такой черницей, чтобы мною бесы играли, яко обешенной птицей, — грустно отвечает Ксения. — Я не возвращусь в мир — не солгу Богови...
— Как же ты сама-то певала, голубушка?
Ино мне постритчися не хочет,
Чернеческого чину не сдержати.
Отворити будет темна келья,
На добрых молодцов посмотрити...
Ксения молчит. Только листок «Слова» дрожит в её руке. Буйносова не выдерживает и обнимает её молча. Какое-то горе постигло эти молодые существа — вероятно, новое горе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу