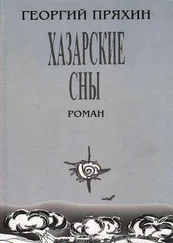Молодые, цвета нежной надвьюшной сажи грачи, захлебываясь вольным студеным воздухом вышины, чистят горло.
Я улетал, мать — оставалась.
Теперь бежал к дому с тем же чувством, с каким когда-то убегал от него. Горечь утраты, радость перемены, ощущение крыльев — как же независим был я теперь от него, и как мне хотелось показать ему, насколько перерос я его зарубки!
Бежал к нему выгоном, а не улицей, чтобы меня до срока не перехватили родичи или знакомые. Пробравшись к дому, несколько раз обходил его вокруг. С каждым приездом дом все больше оседал, подтаивал, как почернелый мартовский сугроб. Степь брала его и с воздуха: на его крутой, с провалами крыше зеленела трава, что росла и вокруг — тонконог, кукушатник. Ни дверей, ни окон уже не было: в наших степных краях щепке пропасть не дадут, особенно той, что плохо лежит. И сквозь образовавшиеся проемы, неслышно подтачивая их, как сквозь старые, осыпающиеся проливы, в дом, не смешиваясь и не разбавляя его погребного холода и сумрака, текли гольфстримы солнца. Увлеченные, обманутые этими потоками, в хату, сверкнув крышами, влетали стрекозы и бабочки и, ослепленные, находили здесь смерть. Я садился на свое старое излюбленное место, на подгнившие и подкосившиеся порожки, и с наслаждением вытягивал ноги. Как хорошо мне там отдыхалось — и от того пути, что был позади, и для всего того, что еще ждало меня. Приваливался к хате, как к старой скирде, и за моей спиной, как в старой скирде, гудели шмели и возились последние мыши.
Когда-то здесь была целая улица, точнее — «порядок», как у нас говорят. Но я этого уже не застал. Был совсем малым, а от порядка уже оставался только наш дом. Да еще три голых, выветривавшихся стены напротив, через вялую, забиваемую травой дорогу. Эти стены были пристанищем наших мальчишеских игр и наших же драк. Когда я спрашивал мать о происхождении стен или пологих глинистых курганов, тянувшихся с двух сторон вдоль дороги и выглядывавших из травы, как лысые маковки, она отвечала односложно:
— Голод.
Не война. Не землетрясение.
Голод.
Жив человек, и живо все вокруг: стены, потолки, деревья (от наших деревьев в первое же лето после смерти матери остались пеньки). Гибнет человек (или, гонимый чем-то, срывается с родового места), и все, что стояло века, каждодневно поддерживаемое им («Не ковыряй двор! — ругала меня мать. — Корова ногу сломает», — великое, как галактика, сцепление мельчайших целесообразностей), одухотворяемое им, рушится в два-три года. Для всего, созданного человеком, смерть человека равносильна угасанию солнца.
Значит, дома умирают от того же, что и люди: от ран, болезней. От голода.
Наш дом умирал от рака печени.
* * *
Мать увезли в больницу, и по воскресеньям мы ездили к ней в райцентр. Встречались в осеннем больничном саду, под огромными дотлевающими кленами. Она выходила в халате, дважды обернутом вокруг ее выболевшего тела, с банками и булками, навезенными за неделю родственниками, и, как мы ни сопротивлялись, скармливала их нам — прямо в саду. Младшего из нас троих брала на руки, облетающая, дотлевающая, едва удерживавшая на обескровленных ветвях свой последний зазимовавший плод. А однажды, уже глубокой осенью, мы увидели ее на этих порожках нашего дома. Было раннее, с морозцем, утро. Я вставал первым, потому что на мне лежали дом и двор: надо было выгнать в стадо корову, «посыпать» птице. Вышел на порог, а здесь мать. В фуфайке, с узелком, сидит, привалившись к притолоке, греясь на последнем солнце, как любил греться и я. В своей колготной жизни она, пожалуй, и забыла, что можно вот так, без дела греться… Оказалось, не хотела нас будить и ждала, пока мы проснемся. Мать похожа на высохшую странницу: отдыхала и от того пути, что проделан ею от автобусной остановки, и для того, безмерного, что ждал ее впереди.
Странница.
Нам сказала, что выздоровела, и мы были счастливы, как весенние воробьи.
Много позже узнал, что в больнице ей сказали: нужна операция, но шансов мало, почти нет. Без операции же она протянет с месяц.
Мать выбрала месяц.
Только мать могла сделать подобный выбор.
После с этих же порожек ее и понесли. Исхудавшая, похожая на пустой, продавившийся кокон, она вся утонула в гробу. И лишь руки, две вложенных одна в другую ладони, выделялись, вознесенные над скорбной пустотой. Непомерно большие, несоразмерные с вернувшимся в детство телом, раздавленные, разношенные тяжелой работой, с искривлениями и надолбами, луженные серым, несмываемым слоем мозолей, они лежали, как чьи-то (чужие!) голые больные ступни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Георгий Пряхин Интернат [Повесть] обложка книги](/books/29922/georgij-pryahin-internat-povest-cover.webp)