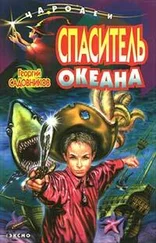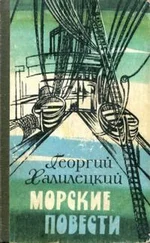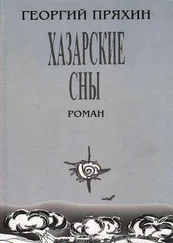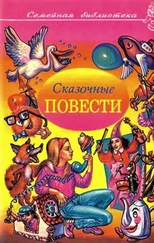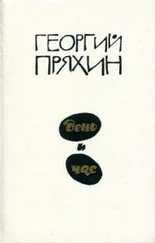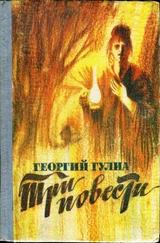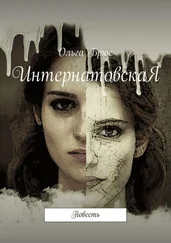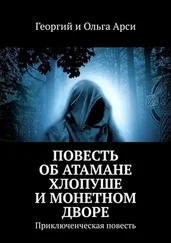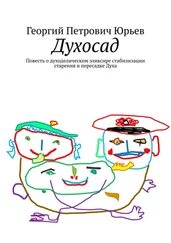Одежки одинаковые, игрушки одинаковые, глаза только разные: черные, синие, карие — яркие, в отличие от линялых осенних одежд. И надо же — судьба послала им солдат.
Над ними возвышался хвойный лес: сапоги, штаны, гимнастерки. Ни цветка, ни разнотравья, листок и тот на ощупь не попробуешь, в рот не возьмешь. Но у каждого дерева в этом лесу уже была своя жизнь, а вот приникающая к нему волна жизни своей не имела: она была жива морем. В качестве моря.
Где засветится их сознание? В таком же типовом детдоме? Или в детприемнике? Что выхватит оно впервые, что захватит с собой в дальнюю дорогу: вот эти стены, куклы, соболезнующую улыбку нянечки?
Они не лишены крова, но они лишены дома. Корня. И это самое горькое. Лицо матери мы припоминаем по родинке. Лицо земли мы узнаем и помним по крохотной, непрочной точке в пространстве и времени — дому. Она, как почка, которой мы прирастаем к земле, и к тем, что в матери сырой земле, и к тем, кто рядом с нами.
Да, в ином доме бывает мало довольства и еще меньше счастья. Но сколько бы его ни было, оно все — твое. Здесь все: даже стены, даже зеленые калачики во дворе служат тебе — и тем легче, естественнее когда-то тебе самому будет служить другим. Хотя бы твоим детям.
Дом — родинка Родины.
Почти у всех, кто жил в интернате, он был. И значит, жил вместе с нами, даже если давным-давно развалился. В снах, наяву, в обиде, в беде. То ласково подталкивал тебя в спину: шагай, родной, то протягивал руку. Отдав нас в ученье, «в детки», как говорят в простонародье, он тем не менее учил нас — пусть хотя бы на равных с чужими людьми. И рассказ об интернате будет неполон без рассказа о доме, — может, потому он время от времени и возникает в нашем повествовании. Точно так и в высшем взносе человеческой души, как бы от имени интерната внесенном в этой жизни Саней Климовым, сошлись, сосредоточились и Мериме, и Учитель, и мать, и, конечно же, — дом.
* * *
Домой ездил каждые каникулы, хоть на несколько дней. Сначала ехал по асфальту, потом куковал на проселочной дороге, робко отбивавшей от засохшего, безжизненного ствола шоссейки в сторону нашего села. Не всегда хватало терпения дождаться попутной машины, и тогда отправлялся в село пешком. Чаще всего меня кто-либо догонял в пути, признавая «Настиного», брал в кузов или в кабину, и тогда я въезжал в родное село кумом короля.
Но случалось и так, что меня никто не подбрасывал, и все двенадцать километров я преодолевал на своих двоих. Грейдер, по которому меня когда-то везла Катя, полого поднимался в гору, а возле самого села круто обрывался вниз. Как только я достигал этого водораздела, родное село открывалось передо мной, словно на ладони. Редкая, пересыхающая череда хат, протекающая по дну степной балки. Я без труда отыскивал взглядом свой одинокий, уже тронутый степью дом, и чувство щемящей радости охватывало меня. Каким бы усталым ни был, я всякий раз переходил на бег и летел к нему стремглав, ласточкой, безошибочно, из поднебесья прицелившейся в родное гнездо. С тех пор уже порядочно прожито на свете, а я могу сравнить это ощущение только с одним, хотя что сравнивать — они абсолютно одинаковы, что весьма странно, потому что вызваны они столь же абсолютно несхожими вещами.
И это, второе (а по сути идентичное) ощущение — тоже из отрочества.
Так же тревожно и радостно замирало сердце, когда, выйдя однажды на порог, я понимал, что кончилось лето.
Мать в фуфайке с подвернутыми рукавами уже не беседовала с Ночкой, а покрикивала на нее: «Стой, стой, комолая!» — для нее дыхание зимы было суровым дыханием новых трудов и неженских забот.
И молоко в подойнике пело глуше, пойманней.
И какое-то перелетное беспокойство жило в природе: по зеленому, уже предснежному небу, сорвавшись с насиженных мест, выворачиваясь исподним пухом, летели — почти с птичьим криком — облака. Оно передавалось и матери, частице природы (без матери природа неполна!) — как отставшей от стаи. Остающейся наедине с зимой.
От матери, от облаков, от первой изморози, севшей на травы тонкой, но уже смертельной паутиной, оно передавалось мне. И разбуженный, объятый этим беспокойством, я нырком срывался с порога, выбегая со двора в степь, что начиналась тут же, у нашей ничем не огороженной хаты, и она подхватывала меня. Но я был зелен, и зима не страшила меня так, как мать (что мне зима — игра!), я был зелен и меньше, чем мать, жалел уходящее лето — сколько их будет впереди! Меня захватывал сам процесс перемены, перелета, и застревавший в горле крик был скорее криком сеголетка, впервые вставшего на крыло, впервые самонадеянно покидающего родные гнездовья.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Георгий Пряхин Интернат [Повесть] обложка книги](/books/29922/georgij-pryahin-internat-povest-cover.webp)