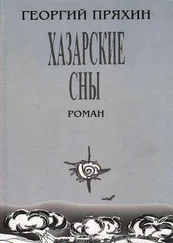Потом был такой же холодный, всеми суставами визжавший на тридцатиградусном морозе автобус, в котором всю дорогу стояла канонада валенок и сапог: пассажиры грелись, пассажиры, можно сказать, на своих двоих топали до самого Белореченска. Правда, нам мороз был уже не страшен: дожили и до буфета, и до ресторана, и захватили кое-что с собой и теперь ехали тепло и уже вновь не видели ничего сомнительного в том, что вот так, с бухты барахты сорвались к Учителю. Был и районный городок Белореченск со старинным, выделанным снегом, какого давно нет в больших городах. По причине заносов автобус в тот день на Изборье не пошел, но нам повезло: на автостанцию завернул тамошний шофер техпомощи.
— Изборские есть? — спрашивал, оглушительно хлопая меховыми, колом взявшимися рукавицами.
— Есть, есть! — обрадовано вскочили мы.
Мужичок с сомнением осмотрел нас.
— Мы приезжие, в гости добираемся…
— Да я не о том. Мало вас, — бросил мужичок и снова пошел по смерзшимся рядам. — На Изборье, на Изборье…
Мужичок-левачок знал, что автобус в его деревню не пошел, и потому выкликал пассажиров громко, открыто, не стесняясь станционного начальства. Человек делал благородное дело.
Позже, когда выехали за город, — желающих воспользоваться оказией больше не нашлось, — мы поняли, что повезло не столько нам, сколько шоферу. Отъехали три-четыре километра, и начались завалы, заносы, пришлось без конца толкать и подсаживать машину, впеременку шуровать лопатой в легком, сыпучем, как пыль, снегу. Километра полтора оттаивали в теплой будке, потом снова соскакивали в снег. Мерзли ноги, потом и паром вышел хмель, кругом уже занималась темнота. Откуда-то изнутри, как болезнь, проступала она на снегу и, тлея, расплывалась вокруг, к самому дальнему углу, где остывало до черноты заветренное солнце.
Мы ехали к Учителю. Простившиеся с юностью, с доверчивой потребностью в учителях, бог знает зачем ехали к Учителю. У нас у самих уже дети-ученики, у меня и Гражданина по двое, причем у Гражданина — от разных жен.
Тонко седеет холостяк Плугов, пошло лысеем мы с Гражданином, у которого вдобавок ко всему вылупился продолговатый земский животик…
Толкая плечом обжигающий, забранный жестью борт, я думал о странном совпадении: второй раз еду к Учителю, и опять почти точно так, как тогда, с Катей.
* * *
Залаяли собаки, и мы поняли, что въехали в деревню. Машина остановилась. Шофер открыл дверь деревянной будки, заглянул внутрь:
— А вы к кому едете?
— К Чернышеву Валентину Павловичу. Учителем он у вас.
— К учителю? — удивился шофер. — Так его уже нет, учителя. Осенью помер.
Мы вылезли из своей конуры, трезвые, промерзшие. Нас дружелюбно обнюхали собаки: в маленьких деревнях они скучают, как люди. Шофер тоже деликатно топтался рядом.
— Ну, жена его тут. Вон — третья изба светится. Заночуйте у нее, она баба хорошая, а утром я же вас могу отвезти обратно, мне все равно опять надо в город. Опять запчасти в «Сельхозтехнике» просить!..
Ему было неловко, что эксплуатировал нас за здорово живешь.
— А вы кто ему будете? Родня или просто?
— Просто, — буркнул Гражданин.
— Ясно, ясно, — с готовностью подхватил мужичок. — Мы тут все его хоронили, ограду сварили, чтоб коровы не затоптали. Три месяца пришлось возить детей в другую деревню, в интернат, учителя не было. Потом прислали. Сейчас же как? Школы нема, и деревня сразу вразбежную. Пахать-сеять некому, государству убыток. Да чего стоять, давайте я провожу вас к Тимофеевне.
Мы бы нашли дорогу и без него, и кто-кто, а уж тетя Шура наверняка бы признала и приняла нас, но остаться сейчас вчетвером — все равно что остаться одному, и мы послушно пошли вслед за шофером по узенькой, жавшейся к избам дорожке, среди сугробов и висевших над ними огней. Избы, ворота — все скрадывалось темнотой, и казалось, что освещенные окна висят над снегами — неярко и неровно. Две короткие, ныряющие цепочки окон, две узкие, след в след, дорожки. За нами преданно плелись попутные дворняги.
Шофер постучал в занавешенное окно. Занавеска отодвинулась, и в окне показалось лицо тети Шуры.
Она нас в темноте не различала, зато мы ее видели до мельчайших морщин. Она почти не изменилась. Те же светлые, сейчас чуть удивленные глаза, то же полное, приятное лицо. И лишь волосы, что были так хороши — смоль с серебром, — стали совсем-совсем однотонными. Как белый снег, как белый свет.
Мы видели и ее, и, пожалуй, самих себя — тех, которых давно нет. Это продолжалось минуту, от силы две, но если глаза в глаза, то минута — много, можно не выдержать. Мы не выдержали, потупились, хотя знали, что эти высветленные настороженные глаза нас не видят, просто не могут видеть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Георгий Пряхин Интернат [Повесть] обложка книги](/books/29922/georgij-pryahin-internat-povest-cover.webp)