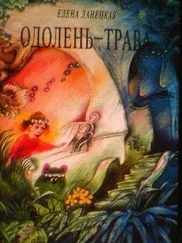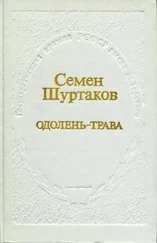Они быстро раздели его, не слушая возражений, растёрли ему руки и ноги и засунули на тёплую широкую печку. Всё тело его теперь жарко горело, в пальцы рук и ног точно впились тысячи острых иголок. От этой боли свет мерк в глазах, и, чтобы не завопить во всё горло, Гаврюша сцепил зубы, мычал, корчился, покачиваясь из стороны в сторону.
— Эх, парень, парень, пороть тебя некому, — разводил дед руками. — В таку-то непогодь! Ану-ка, не приведи господь, волки или дорогу потеряй… Эх!. И что за лешаки понесли тебя в такую-то даль?
— Да краски… я слышал… у вас продаются акварельные краски.
— Краски?! Да ты что, милок, в своём уме? В таку даль за какими-то красками! Мыслимо ли дело! Да пропади они пропадом! Матрёна, ты только погляди, за красками пришёл!
— Сам-то чей, молодец, будешь? — спросила Матрёна, раздувая самовар.
Гаврюша ответил.
— Деда-то твоего, Матвея, знавали, знавали, — закивал радостно дед. — За зверем вместе в одной лодке в море промышляли. Почитай, парень, двенадцать путей [15] Путь — морской промысел.
, зимних и вёшных, выходили с твоим дедком-то. Эвон сколько! Под одной одевальницей [16] Одевальница — большое общее одеяло, сшитое из овечьих шкур.
спали.
— Ну, дедко, пустился теперь в путь-дорогу, не остановишь, — добродушно проворчала Матрёна от самовара.
— Спустимся в море, на льды выберемся, — продолжал вдохновенно дед, — рыщешь, ищешь зверя, бывало, не один день. Охотились больше на нерпу, моржей в Белом море мало, да и шкура толста у тех.
Отчаянны были головушки, через разводья прыгаешь, как лось, — ничего не страшно. Побегаешь, бывало, походишь в разведку эдак-то, пока зверя-то сыщешь. Стреляли наверняка, из-под ветра. Шкуры с салом на ремень соберёшь и по воде тащишь к лодке, а то и по льду — шкуры-то у нерпы покаты. По разводьям попадали к берегу, если ледокол близко — на ледокол шкуры сдавали.
На ночь лодку вытаскивали на льдину. На дрова кинешь оленьи шкуры, ложишься по уставу, как заведено. Накрывались все одной одевальницей.
Другой раз ветер как подойдёт, льдину заломает, закруглит, до свету бьёшься, пластаешься, ищешь большую льдину. Ох-хо, парень, всяко бывало. Не зря старики говорили: зимний промысел — как из кипящего котла выхватить голоручь мяса кусок. А ещё добавляли: либо нерпу уловить, либо головушку положить. Ох-хо, море — горе, а без моря — вдвое…
Тем временем Матрёна поставила на стол клокочущий самовар и налила Гаврюше крепчайшего чаю, влив в чашку ложку спирту. Обжигаясь и отфыркиваясь, Гаврюша выпил несколько блюдец, почувствовал, как, отогревая нутро, живительным теплом растекается по телу душистая огненная влага. После чая, разомлев, тут же за столом уронил он голову на грудь. Сквозь полусон видел, как Матрёна стелила постель. И едва она уложила его в кровать, он, словно в тёплую прорубь, провалился в глубокий желанный сон.
Проснулся Гаврюша на другой день после полудня. За столом, поближе к окну, сидел дед и чинил его валенки, орудуя большой иглой-парусницей: такими раньше шили паруса.
— Проснулся, молодец? Ну, вставай. Обедать будем.
Гаврюша повернулся и чуть не застонал от боли: всё тело, будто отбитое, ныло и болело при каждом движении. «Клин клином вышибают», — вспомнил он отцову поговорку и, кряхтя, поднялся. Умывшись, сел за стол. Есть не хотелось, но немного поел, выпил чаю. Стало полегче.
Дед всё допытывался:
— Эх, парень, парень. Дома-то не ночевал, мать-то, поди, всю душу извела?
— А я записку оставил, чтобы не волновались. Написал, что пойду на охоту, на Большой Чеце заночую. Дорога туда известная — не страшно.
— Записку-отписку! Ремнём бы тебя пополоскать для вразумления, оно бы знал тогда — «не страшно».
Гаврюша оделся и вышел на двор. Можно было только подивиться перемене, происшедшей в природе. Метели и след простыл. В воздухе ни ветерка, ни снежинки. В белёсом, будто отстиранном и вымороженном небе низко висело морозное белое солнце. Гаврюша заторопился в магазин.
— Проснулся, — улыбнулась Матрёна. И тут же засуетилась, выталкивая двух покупательниц: — Закрывать, закрывать пора на обед, бабы.
— А краски? — тихо спросил Гаврюша.
Матрёна беспомощно развела руками.
— Парничёк, нету красок-то. Неделю назад Ваське Широкому последнюю коробку отдала. Выпатрал одну и вот, на тебе, последнюю унёс.
Белый свет помутился в глазах Гаврюши, твёрдый комок подступил к горлу. Если бы ему сейчас отрубили палец, и то, наверно, было бы легче.
Читать дальше