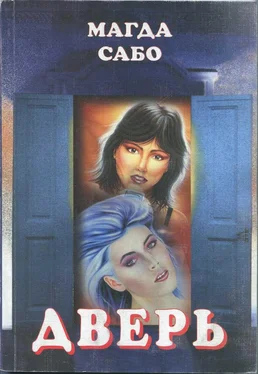Только этого мне не хватало, этой ужасной картины: Эмеренц в собственных нечистотах, в окружении тухлого мяса и расплесканных супов, оправляющаяся от удара, но неспособная еще ходить. Примостившийся с нами на больничном диванчике сын брата Йожи снова заронил мне в душу опасение — вполне оправданное: допустим, и не найдется грабителя, который вынес бы тошнотворную атмосферу ее покинутых владений; но сберкнижки все равно не мешало бы забрать. Слишком уж легкая добыча.
— Ну так давайте, идите, — сказала я ему. — Ищите книжки эти несчастные.
Обе, впрочем, сразу отыскались, засунуты были между сиденьем и изголовьем загаженного канапе. Сын брата Йожи обрадованно сообщил, что и отцу его всегда служили тайниками такие вот зазоры в обивке диванов и кресел. Я между тем осталась поджидать Эмеренц. Муж читал, у него всегда была с собой какая-нибудь книга, я просто сидела, потирая онемевшую кисть: и у меня левая рука словно отнялась. Наконец Эмеренц привезли. В этом виде, не в обычном платье, трудно было ее и узнать. Молча, с закрытыми глазами предоставляла она делать с собой что угодно: сознание еще не вернулось к ней, только уголки рта изредка подергивались. Ее укрыли, поставили капельницу. Я настолько обессилела от стыда и тоскливого раскаяния, что охотнее всего прилегла бы рядом с ней.
Врач посоветовал нам идти покуда домой. Помочь мы все равно ничем не можем, а она в шоке, никого не узнает. В данную минуту даже затруднительно сказать что-либо ободряющее. Инсульт рассасывается, рентген показал, что и воспаление легких прошло; но сердце очень ослаблено, неизвестно, выкарабкается ли она — да и захочет ли (помедлил он), есть ли еще у нее желание и выкарабкиваться-то. Не факт ведь, что с выздоровлением и все остальное автоматически разрешится. Болезнь и обстоятельства водворения сюда крайне для нее унизительны. Конечно, и медицине удается творить чудеса, но тут надо очень и очень постараться. С таким перетруженным сердцем ему нечасто приходилось иметь дело.
Тогда впервые — в самый первый раз с тех пор, как сошлись вместе наши жизни — увидела я ее без головного платка. Передо мной словно лежала ее красавица-мать, только поседевшая: волосы чисто вымытые, благоухающие — и совершенно белые. В очертаниях этой головы угадывалась благородная гармония той, давным-давно не существующей. Сама того не зная, Эмеренц на пороге смерти по необъяснимому волшебству уподобилась собственной матери. «На какой цветок она похожа?» — когда-то в первые минуты нашего знакомства раздумывала я среди розовых кустов. И как посмеялась бы, подскажи мне тогда кто-нибудь: на белую камелию или белый олеандр; на пасхальный жасмин. Но теперь ничто уже не затеняло, не скрывало ее высокого мудрого лба, ее неподвластной даже старости и посрамлению строгой красоты. Не какая-нибудь неодетая, кое-как прикрытая больная, а будто царственная особа, сраженная роковым недугом, совлекшим с нее под конец все наносное, лежала перед нами. Поистине высокородная дворянка, неприкосновенно чистая, как звезда. Вот когда я по-настоящему поняла, что наделала, не оставшись с ней. Будь я там, уж сумела бы во всеоружии своего новообретенного (и снова уроненного!) авторитета убедить доктора не беспокоиться, положить ее под мою ответственность к нам. Уж я бы приняла ее без всякой санобработки, помыла бы, привела с помощью Шуту и Адельки в порядок; а телевидение и без меня бы обошлось. Важнее было предотвратить этот позор, вторжение в ее жилище, которого никто не представлял себе в истинном, первоначальном виде.
Там, в парламенте, на вручении премии, все будут думать: вот какого успеха добилась! А на самом-то деле — провалилась с первой же попытки. Хоть бы сейчас, задним числом, загладить промах, иначе — терзаться всю жизнь… Но теперь разве что колдовство поможет. А надо как-то ухитриться прыгнуть выше себя: уверить ее, что все это ей лишь привиделось, померещилось.
Ночью я дважды звонила в больницу. Состояние Эмеренц было прежним: не хуже и не лучше. Воротясь вечером домой, я нарезала мяса помельче и с тарелкой отправилась на ту кошмарную квартиру. Кошки, конечно, разбежались, но могут и вернуться — другого дома у них ведь нет. Тем более ночь, тишина; даже если перепуганы насмерть, успели успокоиться. С трудом переводя дыхание от смрада, обследовала я все углы, но комната была пуста: ни шороха, ни звука. Утром побежала опять, но мясо было нетронуто, ни одна кошка не наведалась. А как я надеялась, позабыв на время о своей работе и привычках, хотя в моих интересах было бы, наоборот, чтобы они сгинули, пропали; как ждала: вернулись бы на худой конец одна, две… Пускай бы Эмеренц застала в прибранной комнате хоть кого-нибудь из своих любимиц после выписки. Но, как перед тем работники санэпидемстанции, так и я не нашла ни единой — ни живой, ни мертвой. Едва раскололась дверь, едва они почуяли, что рушится их мирок, тотчас сбежали, канув опять во мрак неизвестности, откуда вызволила их Эмеренц. И никогда ни одна даже близко не подходила больше к ее дому, словно какое-то тайное заклятие отпугивало всех. И Виолу не влекло больше порушенное жилище, хотя кому лучше было знать туда дорогу. Квартира после смерти Эмеренц нашла нового владельца; но тщетно манил освещенный, как прежде, холл, напрасно расцветали каждую весну фиалки в палисаднике — пес оставался равнодушен. Везде искал он Эмеренц, по всем местам, где они гуляли, только не у нее дома. Словно заглазно опознал поле проигранной битвы. Улица в те дни заметно попритихла. Так притихают во время болезни какого-нибудь главы государства — не по приказу, а из сердечного участия соблюдая почтительное молчание. Пес лежал на своем коврике пластом, будто ему горло перерезали, даже прогулке не радовался: брел за нами, не глядя на прочих собак.
Читать дальше