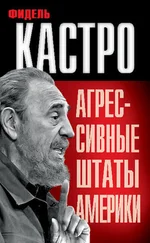Временами стена сельвы расступалась и в своей глубине давала убежище небольшому полю, расчищенному огнем и топором в лесной чаще, где двое-трое кабокло [10] Кабокло — метис от брака белых и индейцев.
строили свое жилье.
Обычно это была хижина, крытая пальмовыми листьями и установленная на деревянном помосте, на сваях, в одном-двух метрах над землей, чтобы вода реки в большое половодье не смогла достать обитателей и их пожитки. Рядом жирау — помост, где вялилась рыба; из старых консервных банок пробивались убогие растения. Одно дынное дерево, два или три банана, иногда небольшое поле маниоки да лодка, покачивающаяся у причала, — и больше ничего. Привычный к уединенной жизни, кабокло не ведал страстей и честолюбия, которые будоражили других людей. Об этом Алберто узнал еще в Белене. Эти леса и вся эта огромная земля, от устья великих рек до их далеких истоков, если не по закону, то хотя бы потому, что здесь жили еще его отцы и деды, принадлежала ему. Но кабокло эту землю не обрабатывал, и потому чувство собственности было ему незнакомо. Щедрый в своей бедности и в своем смирении, полный величия, кабокло отдавал это плодородие и несметные богатства на разграбление чужеземцам, влача свои дни в постоянной нищете и с равнодушием взирая на бег веков.
Узкая тропинка, вьющаяся по высокому берегу, вела от его хижины к старой пироге. Когда приходила охота, кабокло садился в лодку и плыл вверх или вниз по реке; шлеп, шлеп, ленивое весло погружалось в воду, пока один из берегов не открывал входа в озеро, где водилась пираруку. И когда рыба, метнувшись, вдруг, словно молния, сверкала похожей на рубин красной чешуей, кабокло приподнимался в лодке, сплевывал слюну, черную от табака, который он беспрестанно жевал, и бросал острогу. И затем снова с невозмутимостью садился, в то время как раненая пираруку, прикованная к лодке бечевой остроги, мчалась по озеру в бешеной гонке, таща за собой лодку. Если они летели вдоль берега, где ветви деревьев низко свисали над водой, кабокло был вынужден то и дело пригибать голову; и он вновь принимался действовать, лишь когда жертва, измученная борьбой, сдавалась навсегда. Когда дело касалось мелкой рыбы меан, он ее тут же укладывал в лодку; но если рыба была крупной, из той, что тянула на три-четыре арробы [11] Арроба — мера веса, равная 15 кг.
и, будучи разрезана на куски, заполняла весь жирау, то он подтаскивал ее к берегу, где операция погрузки становилась более легкой.
Нарезанная на куски и высушенная, рыба продавалась в городке поблизости. То, что оставалось, служило кабокло каждодневной пищей. На вырученные деньги кабокло покупал соль, муку и кашасу [12] Кашаса — бразильская водка из сахарного тростника.
. И, пока хватало припасов, жил безмятежно, не думая о заработке. Ежедневная порция кашасы и при случае танцы в какой-нибудь хижине на берегу, чтоб размять ноги, — других желаний у него не было.
В остальном его жизнь была глубоким одиночеством, жизнь, замкнутая сельвой, чуждая всех мирских тревог, жизнь настолько в стороне от всего, настолько темная и неизведанная, что заставляла думать о человеконенавистничестве, чего на самом деле не было.
Когда «Жусто Шермон» проходил мимо, семья кабокло появлялась на гребне откоса, наблюдая за проплывавшим символом цивилизации, в то время как кто-нибудь из детей сбегал вниз, к воде, постеречь, чтобы волны от парохода не смыли лодку и течение не унесло бы ее вниз по реке.
Время от времени на высоких участках берега перед глазами Алберто внезапно возникало четыре или пять грубых креста, полусгнивших в высокой траве. Видение так же внезапно исчезало, полузадушенное сельвой, наступавшей на маленькое кладбище, сея жизнь на земле мертвых. Все же эти жалкие некрополи, где не было ни мрамора, ни величавых эпитафий, представляли собой единственную частицу романтики в тех уединенных краях.
Но Алберто уже порядком устал. Давным-давно отзвонил колокольчик наверху, в первом классе, возвещая начало завтрака. Должно быть, там уже кончили есть, так как сверху до него долетали голоса, переговаривающиеся вяло, лениво, между затяжками сигарой, что говорило об окончании пиршества и о переходе к приятному перевариванию пищи.
Балбино все не шел, — вероятно, он забыл об Алберто, может, и совсем не придет. Мысль, что о нем забыли, особенно угнетала Алберто. Его глаза уже не следили за пейзажем. Они внимательно смотрели на трап, который соединял обе палубы. При мысли о завтраке его аппетит разыгрывался все больше и больше. Чтобы заглушить голод, он курил сигарету за сигаретой. Но его желудок уже отзывался на табак тошнотой, и у него начиналась головная боль. Однако Алберто все еще строил различные догадки относительно своего завтрака: посадят ли его за стол в ресторане первого класса или принесут еду сюда? Если пригласят наверх, то это было бы неплохо. Здесь же, среди пестрой и грязной толпы, равнодушно приемлющей все, что выпадет ей на долю, завтрак или обед, как бы хорош он ни был, не доставит ему большого удовольствия.
Читать дальше
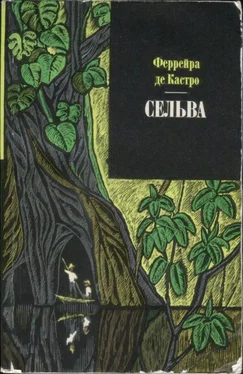
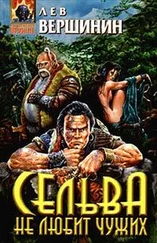

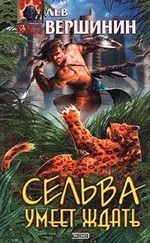




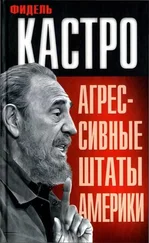
![Владстон Феррейра Фило - Теоретический минимум по Computer Science [Все что нужно программисту и разработчику]](/books/389524/vladston-ferrejra-filo-teoreticheskij-minimum-po-co-thumb.webp)