Но возвращаюсь к моему рассказу.
Иду я вниз по холму под проливным дождем и в густом мраке, не сдержав обещания, данного товарищам, – оставаться дома и следить за лошадьми. Когда я приблизился к маленькому салуну, то решил зайти и пропустить пару рюмок. Я уже давно знал, что двух приблизительно рюмок вполне достаточно, чтобы меня на две трети одурманить, и после этого я уже не в состоянии ходить прямо.
Но в эту ночь мне было на все наплевать.
Я направился по маленькой тропинке к двери кабака. Эта дверь, должно быть, вела в гостиную, когда здесь жили фермеры, и тут имелось небольшое крылечко.
Прежде чем открыть дверь, я оглянулся.
С того места, где я стоял, я мог различить главную улицу городка, как будто я находился в Нью-Йорке или в Чикаго и смотрел вниз с высоты пятнадцатого этажа.
Холм был чрезвычайно крут, и дорога вилась, как змея; в противном случае никто не мог бы добраться из города до этого Богом проклятого ипподрома.
Неважное зрелище представилось моим глазам: главная улица, целый ряд кабаков, несколько лавок, один или два заколоченных кинематографа, несколько «фордов», довольно много мужчин и почти ни одной женщины или девушки.
Я пытался представить себе, что та девушка, о которой я, шагая по грязи вдоль стойл на ипподроме, грезил, живет в этом доме, – но это мне не удавалось. То же самое, что представить себе Наддая спускавшимся в тот грязный кабак, куда я сейчас направлялся. Совершенно немыслимо.
Как бы то ни было, я видел, что этот городок, там внизу, был не таков, каким следует быть городу.
Я полагаю, что все женщины и дети – это было в субботу вечером и лил дождь – оставались дома, и только мужчины вышли из дому с целью выпить как следует. Мне приходилось позднее жить в одном из таких шахтерских городков, и будь я сам шахтером и случись мне жить в одной из тех конур, в которых живут шахтеры с женами и детьми, я бы тоже ушел из дому и напился.
Стою я и гляжу вниз. Промок и продрог, словно крыса, попавшая в водосточную трубу, а на душе – как у больной, голодной собаки.
Я видел, как двигались человеческие фигуры там внизу, а за главной улицей протекала река, и даже с того места, где я стоял, слышен был шум воды; за рекой тянулось железнодорожное полотно, по которому взад и вперед шмыгали паровозы. Они тоже, я полагаю, имели некоторое отношение к шахтам, в которых работали жители городка. Я потому так думаю, что, стоя на холме, я от поры до времени слышал глухое громыхание, – по всей вероятности, звук угля, возможно, сотен пудов, насыпаемого из лебедок в вагон.
А вдали, на склоне другого холма, высился целый ряд доменных печей. В каждой имелось отверстие, через которое виднелось пламя внутри, и так как они стояли близко друг к другу, то напоминали собою зубы какого-то гиганта-людоеда, залегшего в горах в ожидании жертвы.
Все это зрелище и особенно вид тех дьявольских конур, которыми люди довольствуются вместо жилья, заставило меня вздрогнуть, и вдоль спины покатились сосульки льда. В эту ночь, надо полагать, я презирал все человечество, не исключая и себя самого.
Если хорошенько разбираться, то женщины далеко не в такой степени виноваты, как мужчины. Не они ведь верховодят повсюду, как мужчины.
* * *
Я толкнул в дверь и вошел в салун. Там было человек двенадцать – я полагаю, шахтеров; они сидели за столиками в грязной продолговатой комнате и играли в карты, а за баром, тянувшимся вдоль стены, стоял огромный мужчина с багровым лицом и густыми усами.
Запах в комнате был такой, как всегда в тех местах, где толкутся мужчины, которые работали и потели в своем платье, спали, не снимая его, и никогда не мыли его, продолжая носить его до бесконечности. Вы, наверное, меня понимаете, если бывали в большом городе. Особенно чувствуется этот запах в трамваях в дождливую погоду, когда вагон полон чернорабочих. Я близко познакомился с этим в бытность мою бродягой, и теперь меня порядком тошнило от него.
И вот я стою в этом салуне со стаканчиком виски в руке, и кажется мне, что все шахтеры смотрят на меня; они и не думали на меня смотреть, но мне так казалось, и, конечно, я испытывал такое чувство, будто они впились глазами в мой затылок. А потом я случайно посмотрел в старое потрескавшееся зеркало над баром. И если бы шахтеры действительно смотрели на меня и смеялись, меня это ничуть не удивило бы после того, что я увидел.
Оно – я хочу сказать, мое собственное лицо – было белое, похожее на тесто, но почему-то – причины я и сам не знаю, – оно вовсе не походило на мое лицо. То, что я хочу вам сказать, покажется вам смешным, и я так же хорошо, как и вы сами, знаю, что вы обо мне подумаете, но не считайте, что я дурак или что я стыжусь.
Читать дальше
![Шервуд Андерсон Кони и люди [сборник litres] обложка книги](/books/400246/shervud-anderson-koni-i-lyudi-sbornik-litres-cover.webp)

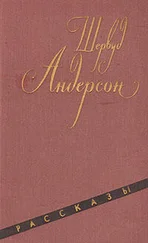
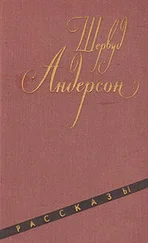
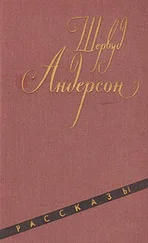
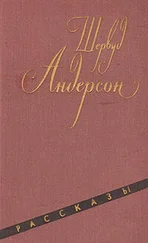
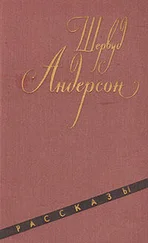

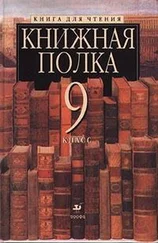
![Пол Андерсон - Зовите меня Джо [сборник litres]](/books/387816/pol-anderson-zovite-menya-dzho-sbornik-litres-thumb.webp)
![Шервуд Андерсон - Уайнсбург, Огайо. Рассказы [сборник litres]](/books/400245/shervud-anderson-uajnsburg-ogajo-rasskazy-sborni-thumb.webp)
![Шамиль Идиатуллин - Всё как у людей [сборник litres]](/books/431943/shamil-idiatullin-vse-kak-u-lyudej-sbornik-litres-thumb.webp)
