– Почему?
– Отчаялся. Надежды больше нет. Веры тоже.
Гребер посмотрел в пергаментное лицо:
– А ты?
– Не знаю. Сперва надо разобраться вот с этим. – Он кивнул на проволочный каркас.
Теплый ветер с луга залетел в палату.
– Странно, да? – сказал Фрезенбург. – В снегу казалось, здесь никогда не наступит лето. А оно вдруг наступило. И сразу слишком жаркое.
– Да.
– Как было дома?
– Не знаю. Я уже не в состоянии связать одно с другим. Отпуск и вот это. Раньше мог. Теперь уже нет. Слишком все это далеко друг от друга. Я уже не знаю, что́ есть реальность.
– А кто знает?
– Я думал, что знаю. Там, дома, все казалось правильным. А теперь… не знаю. Все было так недолго. И слишком далеко от того, что здесь. Там я даже думал, что больше не стану убивать.
– Не один ты так думал.
– Да уж. Болит сильно?
Фрезенбург покачал головой.
– В этой берлоге нашлось то, чего никак не ожидаешь: морфий. Мне его кололи. И пока что он действует. Боли есть, но как бы чужие. Еще часа два могу думать.
– Придет санитарный поезд?
– Здесь есть санитарная машина. Отвезет нас к ближайшей станции.
– Скоро тут никого из нас не останется, – сказал Гребер. – Вот и ты уезжаешь.
– Может, меня опять подлатают, и я вернусь.
Они посмотрели друг на друга. Оба знали, что это неправда.
– Мне хочется так думать, – сказал Фрезенбург. – Хотя бы те час-два, пока действует морфий. Иной раз кусок жизни оказывается чертовски коротким, а? Потом начинается другой, о котором ничегошеньки не знаешь. Это была моя вторая война.
– Что будешь делать после? Уже решил?
По лицу Фрезенбурга скользнула беглая улыбка.
– Я даже не знаю пока, что со мной сделают другие. Так что погожу. Никогда не думал, что выберусь отсюда. Думал, огребу сразу по полной, насмерть. Теперь надо привыкать, что огреб только половину. Не знаю, проще ли так. Мне казалось, проще первое. Амба, вся эта хрень больше тебя не касается, расплатился, и точка. А теперь опять сиди в дерьме. Чего только себе не внушаешь, мол, смерть все смоет и прочее. Неправда это. Я устал, Эрнст. Попробую заснуть, пока не почувствовал себя калекой. Будь здоров.
Он протянул Греберу руку.
– Ты тоже, Людвиг, – сказал Гребер.
– Само собой. Я ведь теперь плыву по течению. Примитивный жизненный инстинкт. Раньше было иначе. Хотя, возможно, тоже обман. Капелька надежды еще оставалась. Ладно. Все время забываешь, что можешь сам со всем покончить. Это мы получили в подарок вместе с так называемым разумом.
Гребер покачал головой.
Фрезенбург улыбнулся своей половинчатой улыбкой:
– Ты прав. Мы так не поступим. Лучше позаботимся, чтобы вот это никогда больше не повторилось.
Он откинул голову на подушку. Вид у него вдруг стал донельзя измученный. Когда Гребер был у двери, он уже закрыл глаза.
Гребер возвращался в свою деревню. Тусклая вечерняя заря окрасила небо. Дожди прекратились. Грязь подсохла. На брошенных полях буйно росли цветы и сорняки. Рокотал фронт. Все казалось неожиданно чужим, все связи – расторгнутыми. Это ощущение было Греберу знакомо, оно часто охватывало его, когда, проснувшись среди ночи, он не понимал, где находится. Словно выпадал из окружающего мира и парил во мраке один-одинешенек. Обычно это длилось недолго. Вскоре он возвращался в реальность, но каждый раз оставалось легкое, странное чувство, что однажды не сумеешь вернуться.
Страха он не испытывал, лишь как бы съеживался, делался крошечным, как ребенок, беззащитный в огромной степи, из которой любой путь был стократ слишком долог. Он сунул руки в карманы, огляделся. Все то же вокруг – развалины, незасеянные поля, русский закат, а напротив, как всегда, первые тусклые зарницы фронта. И вместе с ними безнадежный холод, насквозь пронзавший сердце.
В кармане он чувствовал письма Элизабет. Они дарили тепло, нежность и сладостное волнение любви. Но не были лампой, что озаряет спокойным светом благоустроенный дом; то были блуждающие огоньки над болотом, и чем сильнее ему хотелось следовать за ними, тем более топким казалось болото. Он хотел выставить лампу, чтобы отыскать обратную дорогу, но выставил ее прежде, чем построил дом. Выставил в развалинах, и она не украшала их, только прибавляла уныния. Там он этого не знал. Шел за светом, и не спрашивал, и хотел верить, что достаточно идти за светом. А этого оказалось мало.
Сколько мог, он отбрасывал эту мысль. Ох как непросто было осознать, что все, от чего он желал надежности и поддержки, на деле лишь еще больше его обособляло. Достигало недостаточно далеко. Трогало сердце, но не поддерживало его самого. Это было маленькое личное счастье, и оно тонуло, не могло уцелеть в бесконечной трясине всеобщей беды и отчаяния. Он достал письма Элизабет, перечитал, и красный отсвет заката лежал на листках. Он знал эти строчки наизусть, перечитал еще раз, и опять они сделали его еще более одиноким, чем прежде. То был слишком краткий миг, а вот это, другое, длилось слишком долго. То был отпуск, а жизнь солдата отмеряется временем на фронте, а не отпусками.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Эрих Ремарк Время жить и время умирать [litres] обложка книги](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-cover.webp)


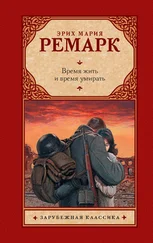
![Макс Мах - Эпоха мечей - Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/393605/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Три товарища [litres]](/books/395705/erih-remark-tri-tovaricha-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - На Западном фронте без перемен [litres]](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-thumb.webp)
![Ян Валетов - Не время умирать [litres]](/books/438191/yan-valetov-ne-vremya-umirat-litres-thumb.webp)

