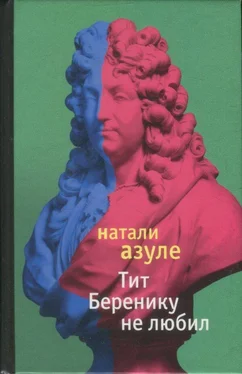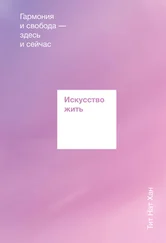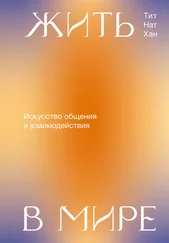— Разлука — не малость.
— Вы так и написали в предисловии.
— Ну да.
— Это что же, погоня за модой? Нарочитый вызов?
— Вовсе нет. Понять, что происходит в человеке, обреченном на разлуку, — значит проникнуть в глубины его сердца, его страстей, его одиночества. Это возможность препарировать омертвевшую душу, не пролив ни капли крови.
— Опять «препарировать» — хватит уже этих разговоров!
Жан гордо вздернул голову, но он горько уязвлен. А еще горше слышать, что некоторые строчки из трагедии разошлись по салонам как шуточки. Мари его предупреждала. Болтали, будто его Тит смешон и жалок для монарха, насмешничали кто во что горазд. Над Береникой тоже издевались: дескать, убей она себя, тогда и Тит покончил бы с собой, а он ей надоел и в этом мире, вот почему она вернулась в Палестину.
— Думать так — значит не замечать, с каким трудом она заставила себя расстаться с ним, — Жан повторяет сказанное в собственном предисловии к пьесе, но ничто не спасает его от дежурных попреков: дурно построены стихи, нарушена грамматика.
— «Сегодня же, судьбу соединив с любимым, Преобразится во владычицу над Римом» [56] Жан Расин. Береника, V, 3.
. Здесь нужен другой оборот: не преобразится во владычицу, а станет владычицей.
— Но говорят же: «Хлеб претворяется в тело Господне», — защищается Жан.
— Ваша трагедия — не евхаристия!
— Вот тут неправильно: «…но в тот же миг Окован робостью, немотствовал язык» [57] Там же, II, 2. Жан Расин. Береника, V, 3.
. Тут нужно «немел», а не «немотствовал».
— Но тогда был бы не тот смысл!
«О чем они все толкуют?» — удивляется Жан. Ему эти придирки напоминают судебные дрязги и рыночный торг, так что в конце концов, устав и торговаться, и тягаться, он отказался спорить: пусть все само собой побурлит и утихнет. Что ж они думают, он не соображал, что пишет? А Никола хоть и досадует, что друг его почти не слушает и не желает ничего менять, но восхищен его нахальством, тем, как он дерзко и исподтишка берет и выворачивает на свой лад язык, и неожиданным почтением, с каким его теперь встречают всюду, где бы он ни появился. Или тому причиной его солидный вид и пышные, роскошней некуда, наряды? Или другое… — он излагает Жану все свои предположения. Первое: Жан заставил всех услышать душераздирающий голос оскорбленной любви, который отозвался болью во всех сердцах, — насмешки просто прячут это чувство. Второе: у короля блестят глаза, как только упомянут имя Жана, затмившего Мольера и Люлли. Третье: Жан безвозвратно оттеснил Корнеля, его теперь считают устаревшим трагическим поэтом. Жан слушает с улыбкой. Такие рассуждения, арифметически прямые аргументы в его пользу, ему по нраву.
Красивейшие женщины пускаются перед ним в откровеннности. Иной раз очень вольные, так, например, одна из них сказала, что настоящая разлука куда непригляднее, чем в его пьесе, в ней нет величия и стройности, она — истошный вопль, от которого лопаются барабанные перепонки; покинутая женщина — скрипучий, рассыпающийся остов, и каждый волен бесстыдно разобрать его на косточки и вырвать нежные хрящи.
— Разве не сердце вырывают нам? — подсказывает Жан.
— Нет… кости… кости…
«Для исстрадавшегося сердца эти стихи что острый нож», — подумал Жан.
— Мне показалось, — шелестит другая, — что все герои вашей «Береники» — словно восставшие из пепла.
— Да, верно.
— Этот пепел дымится, но вскоре остынет, — дрожит ее голос.
— Да, — подтверждает Жан и млеет, оттого что нежное дыхание пощекотало его ухо.
— Суровость неба охладит их пыл.
Жан с улыбкой кивает и хвалит поэтический талант прекрасной дамы, как вдруг та заливается слезами. Жан не знает, что делать, растерянно смотрит вокруг: вот Никола с другого конца зала посылает ему понимающий взгляд, вот улыбается Мари; почувствовав поддержку, он берет собеседницу за руку, сжимает ее пальцы, обещает разутешить как нельзя лучше.
— Так, значит, вы — как я? Любили и хотели быть любимым?
— Почти что так.
— Такие дивные стихи, — помолчав, продолжает она, — рождаются на самом дне души, иначе быть не может.
— Душа бездонна, — отвечает Жан.
Он ликует. Его так часто обвиняли в потакании дамским вкусам, что он в конце концов перестал конфузиться в обществе дам. По правде говоря, в пьесе много такого, чего ему не доводилось пережить. Конечно, он вложил в нее остатки собственной печали, чтобы разгорячить сердца зрителей, раздуть в них тлеющие угли, но в его собственных жилах, помимо крови, теперь струится некая холодная, хрустальная, огнеупорная субстанция. Что бы ни было, думает он, обнимая бедняжку, страдать, как женщина, я больше никогда не стану. Охотник больше никогда не станет дичью. И в подтверждение напористо овладевает жертвой.
Читать дальше