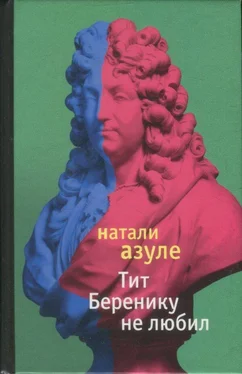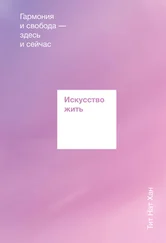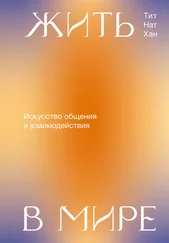Чей-то далекий голос приглашает Беренику в дом, благодарит, что пришла. Расступаются, пропуская ее, дети; она же, проходя мимо них, чует, как пахнут их волосы и одежда, ощущает на себе их смешанное дыхание, видит, как они притискиваются плечами друг к другу, чтоб ненароком не прикоснуться к ней. Скопление тел с общею кровью в жилах, общими жестами и голосами; семейный клан, хищная стая, готовая растерзать чужака. Сейчас, говорят ей, вас проводят в его комнату. Она кивает, да, но кто же согласится взять на себя такой малоприятный труд? Вперед выходит женщина, ведет ее, бросает вскользь: «Я столько слышала о вас». Они идут по коридору, к лестнице. Заскрипели ступеньки. Как собственные кости под ногами, — содрогнулась Береника. Схватилась за перила, тяжело дышать. Провожатая обернулась: «Все хорошо?» — «Да-да. А где Империя?» — «Пошла что-то купить». Пусть покупает хлеб или лекарства, Береника тем временем в последний раз увидит Тита.
Лестница никак не кончится, Береника боится, что ее нервы не выдержат этого восхождения, ее спасает память — подбрасывает на каждую ступеньку какую-нибудь картинку. Шаг за шагом ноги разыгрывают чудодейство любви, с начала до конца, все его эпизоды, то мрачные, то светлые. Она видит себя рядом с Титом, ее шатает от счастья, широкая блаженная улыбка до ушей — не рот приоткрывался, а душа, впитавшая магическую силу той улыбки. Чудо любви, луч, высветивший точку в темноте — их первый поцелуй. Руки Тита, руки каменной статуи, теплеют, оживают, тянутся к Беренике — коснуться, обнять… Но на новой ступеньке у них другие лица, перекошенные. Между ними — пропасть, они стоят по обе стороны, кричат, выпускают словесные стрелы, стараясь сокрушить друг друга. Тит — Беренику, Береника — Тита. Он не может покинуть Империю. И Береника вынуждена потрясать своей любовью, набивать ей цену. Расхваливая свой товар, она хватается за все, что подвернется под руку: важнее всего чувство, дети поймут и простят, имущество — ерунда. «В могилу все равно ничего не утащишь, как старую жену», — повторяет она.
Добрались доверху. «Пришли», — сказала провожатая. Береника еле дышит. С большого портрета на лестничной клетке на нее смотрят Тит, Империя и дети. Она замерла. К черту все эти хищные семьи, с их улыбками, солнцем, их самодовольным злорадством. Ей так хотелось стать для него ценнее всего: семьи (всех шестерых домочадцев), совместно прожитых лет, — стать той божественной валютой, что обесценит все другие, ради которой человек охотно пустит с молотка все, чем владеет. «Это снимала я», — сказала провожатая. Береника уже было взялась за ручку двери, чуть толкнула. Дверь приоткрылась, на нее пахнуло воздухом, которым дышит умирающий, и тут вдруг ей сдавило грудь, перехватило горло, она едва не задохнулась, закричала: «Нет! Не могу, не могу!» — и побежала вниз.
Скорей по коридору, к выходу, но там Империя, уже вернулась и стоит довольная, ее победа: Тит умрет на руках у нее, лишь у нее одной. Береника рванулась за дверь и еще на пороге услышала за спиной ее голос, до тех пор незнакомый:
— Но, мадам…
Не оборачиваясь, она застыла. Пальцы сжимали ручку двери. Любовь к Титу, подумалось ей, заставляет лихорадочно биться сердечные створки. «Мадам», — повторяет Империя. Глаза ее — вот неожиданность! — просят, умоляют остаться. Береника растерянно улыбнулась, а Империя договорила: «Останьтесь!» — ей больно видеть это пустующее место, этот стул у изголовья Тита. Могла бы — сгребла бы в охапку крохотную Беренику и усадила туда силой. Ввинтила бы, чтобы заполнить проклятую пустоту, разрушившую ее брак. Но Береника уже вышла, захлопнув за собою дверь.
В машине она плачет бурно, некрасиво. Лицо в липкой каше из слез и соплей, волосы лезут в глаза, мокрые пальцы впиваются в руль. Давно уже она не плакала вот так, ведь с некоторых пор ее слезы стекают внутри, по ледяным перегородкам, она всем говорит: вы их не видите, но я все время плачу. Тит был так близко, за полуоткрытой дверью, рукой подать, а она отказалась войти, прикоснуться к нему. Побоялась: вдруг даже сейчас, в таких прискорбных обстоятельствах, коснись она его руки, и тут же ощутила бы живую плоть воспрянувшей любви, или, наоборот, ее рука легла бы на холодный мрамор любви окоченевшей. Нет, у нее нет сил даже думать об этом.
Конечно, приходя в себя, она от многих слышала циничное «клин клином». И улыбалась, кивала, даже попробовала применить. Изнывая от боли и злобы, искала утешения у Антиоха, красивого верного поклонника. Она плакала у него на плече, он ее обнимал, но между ними объемистой помехой затесался Тит, и сколько ни пытался Антиох его сплюснуть, прижимая к себе Беренику, фигура Тита только еще пуще топырилась, распухала, мешала. Береника почти умилилась его благородству, но вспомнила: A любит B, B любит C, — и поняла: Антиох — это A, он любит B, и никакой заслуги в этом нет. И часто, замерев в его объятиях, она с досадой думала: ну почему любовный морок, который так легко приворожит друг к другу хоть кого, не может, точно тучка по небу, перепорхнуть с того на этого? Почему обманчивый ореол, в котором B видит C, нельзя перенести на А? Или в этом обмане все же кроется капелька правды, пусть ничтожная, но решающая, из-за которой такая подмена никак не возможна: A никогда не превратится в C. В конце концов она велела Антиоху никогда больше не звонить и не искать с ней встреч. «Гонишь меня назад, в мою пустыню?» — спросил он с горечью. «У каждого своя пустыня».
Читать дальше